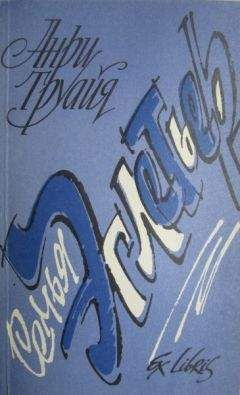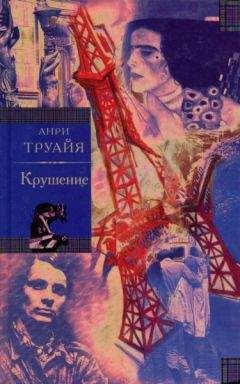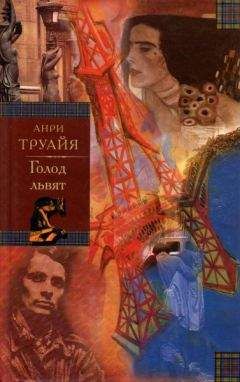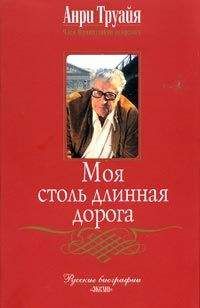— Не пора ли нам вернуться?
Франсуаза сделала гримаску:
— Дома на тебя набросится Даниэль со своими историями. Нельзя будет и посидеть спокойно. А тут нам хорошо, правда?
— Если я заговорю на эту тему с твоим отцом, он откажет, только чтобы досадить мне! — сказала Мадлен.
— Ты думаешь?! — воскликнул Даниэль. — Правда, в прошлый раз он нагрубил тебе, но это вовсе не значит, что нагрубит и теперь. Вообще-то он прислушивается к твоему мнению. Я уверен, ты сумеешь его умаслить.
— Ну знаешь, умасливать людей не в моих привычках!
— Я хочу сказать, сумеешь втолковать ему, что это всерьез, что он может быть спокоен.
Сидя на тахте и упершись локтями в колени, Мадлен покачала головой:
— Вот именно всерьез! Кто же тут будет спокойным?
— Ну что ты, Маду! Уже все признали пользу этой затеи.
— Тебе придется странствовать одному, зарабатывать себе на хлеб, ночевать бог знает где!
— Меня снабдят рекомендательными письмами!
Мадлен исподтишка разглядывала племянника. За три месяца, что она его не видела, он вытянулся еще больше. Долговязый, угловатый, лицо еще детское, а говорит басом. Едва они с Франсуазой вошли, он потащил ее в свое логово: хотел поговорить наедине. Из своей комнаты, расположенной в самой глубине квартиры, Даниэль сделал что-то немыслимое! Он устроил здесь все по собственному вкусу, не спрашивая ничьего совета. Стены окрашены в красный цвет, потолок — в черный. Стол завален грудой бумаг; шкаф без дверец набит книгами; на полках громоздятся наконечники копий, разноцветные камни, фигурки из слоновой кости, амулеты; на двери приколота карта Африки; над кроватью красуется огромный цветной плакат — обнаженная негритянка царственного вида, с нижней губой, натянутой на деревянный диск, бесчисленными косичками, груди острые, как снаряды. У стены современный торшер на никелированной подставке, с потолка свисает матовый светильник, напоминающий не то рыбу, не то луну. В углу торчит гитара (для чего? Даниэль не играет на гитаре!), а из ящика, отделанного под бамбук, где скрыт проигрыватель, приглушенно и словно издалека доносится хриплая, мрачная и прерывистая мелодия негритянского религиозного гимна.
— Выключи, пожалуйста, эту штуку! — сказала Мадлен.
— Тебе не нравится?
— Она мешает мне сосредоточиться.
Даниэль удивился.
— Чудно! А мне, наоборот, помогает. Я всегда занимаюсь под музыку.
— Не такой уж блестящий от этого результат!
— А что? Я не хуже других!
Он остановил проигрыватель. В воцарившейся тишине Мадлен яснее осознала ответственность, которую собиралась взвалить на себя. Конечно, мысль, что она станет на сторону племянника в споре с братом, воодушевляла ее, однако не настолько, чтобы заслонить риск подобной затеи.
— А вдруг ты там заболеешь? Дизентерией, например…
— Обязательно, — прыснул Даниэль. — А еще там есть змеи, скорпионы, мухи цеце!.. Ей-богу, тебя не узнать, Маду! Когда я был малышом, ты брала меня с собой в лес Фонтенбло. Заставляла таскать тяжелые рюкзаки, купаться в ледяной воде, колоть дрова… Ты готова была поджечь кусты, чтобы только научить меня тушить пожар…
Мадлен улыбнулась, выпустив дым. Ее тронуло, что Даниэль не забыл их субботние походы — как они спали в палатке, вставали на рассвете, готовили на спиртовке… Ему было тогда лет семь-восемь, не больше… После второй женитьбы Филиппа она надеялась, что брат попросит ее продолжать воспитание детей. Ничуть не бывало! Он желал, чтобы Кароль (которую тогда звали просто Шарлоттой) полностью вошла в роль супруги и хозяйки дома.
— Видишь? — спросил Даниэль.
Он показал пальцем на снимок, приколотый кнопкой к стене: у входа в палатку стоит молодая стройная Мадлен («во мне было, наверно, не больше 55 килограммов!») в шортах и спортивной рубашке. Она прижимает к бедру мальчугана, с грязными коленями, лицом, сморщенным от солнца, — это Даниэль. Позади него угрюмая нескладная девочка — Франсуаза. Жан-Марка не видно, должно быть, он фотографировал.
— Ну и вид у меня!
— Сейчас ты лучше! — согласился Даниэль.
— Ты находишь?
— Ну да… Ты стала крепче.
Она засмеялась и наклонилась к другой фотографии, висевшей пониже. Худенькая девушка шагает по улице с книгами под мышкой.
— А это кто?
— Так, одна девчонка. Даниэла Совло, — небрежно ответил он.
Пока Мадлен разглядывала другие снимки, изображавшие чемпионов бокса и велогонщиков, он снова заговорил не совсем уверенно:
— Ну так как же, Маду, могу я на тебя рассчитывать?
Мадлен тяжело вздохнула и тотчас почувствовала облегчение. Разве ей устоять перед просьбой Даниэля? Сигарета была докурена, она оглянулась, ища глазами пепельницу.
— На. — Даниэль протянул ей жестяную банку.
Мадлен притушила окурок и стала рассматривать свои желтые от табака пальцы. Стоя перед теткой, Даниэль ждал.
— Ладно, я поговорю с отцом.
Даниэль порывисто обнял ее.
— Какая же ты молодчина! Я уверен, что с твоей помощью дело пойдет! Хочешь, я покажу тебе свой маршрут?
Оба склонились над атласом, но вошла Франсуаза и сообщила, что Кароль ожидает их в гостиной. Даниэль проворчал, что в этом доме не дадут и десяти минут посидеть спокойно, разгладил пятерней волосы и последовал за сестрой и теткой. Выходя из своей комнаты, он залепил двери клейкой лентой.
— Так я по крайней мере буду уверен, что никто не станет здесь без меня рыться.
— Да кому это нужно! Кого интересует твоя конюшня?
— Я уверен, что Аньес таскает у меня марки для своего сопляка!
— Постыдился бы наговаривать на Аньес…
Они препирались вяло, больше по привычке…
Дверь в гостиную была открыта. Все в ней, от шелковых обоев цвета сомон до дорогой и прекрасно реставрированной мебели в стиле Людовика XV, поражало каким-то бездушием. Каждая вещь занимала отведенное ей место, все застыло в неподвижности, как на витрине, Кароль сидела в своем любимом бледно-голубом пеньюаре с широкими рукавами.
— Вы уж извините, я по-домашнему, — сказала она. — Вечерами, возвращаясь домой, я чувствую себя совершенно разбитой.
На самом деле вид у нее был свежий, и пеньюар она надевала скорей всего из кокетства. Мадлен невольно залюбовалась ее стройной фигурой, грациозной, коротко остриженной головкой, кошачьим личиком. Взгляд слегка усталых и как бы рассеянных дымчато-серых глаз Кароль излучал своеобразное обаяние. И хотя ее трудно было назвать красавицей, было понятно, почему Филипп увлекся ею. К тому же Кароль всего тридцать два года, а ему уже стукнуло сорок пять.
— Это я должна просить у вас извинения, — сказала Мадлен. — Нагрянула как снег на голову…
— Ну что вы, Мадлен, здесь вы у себя дома! — возразила Кароль. — Все ужасно вам рады. Я велела приготовить вам комнату…
Мадлен тотчас запротестовала.
— Нет-нет, ночевать у вас я не стану.
— Но почему?
— После того, что произошло в последний раз…
— Какая нелепость! Конечно, Филипп погорячился. Но вы же знаете его, он сожалеет о случившемся и уже все забыл…
— А я не забыла, — ответила Мадлен. — И потом я сняла номер в гостинице, в двух шагах отсюда…
В ее взгляде читалась такая решимость, что Кароль отступила. И Мадлен, которая время от времени любила напоминать о своем строптивом характере, успокоилась. Внеся ясность в этот вопрос, Мадлен с улыбкой принялась слушать рассказ Даниэля о том, как «тайным голосованием» (это обстоятельство ему особенно льстило) его избрали кандидатом на субсидию Зелиджа.
— Если все пойдет гладко, в июле я отправлюсь на Берег Слоновой Кости.
— Нужно еще согласие отца, — заметила Кароль.
— Он согласится, — ответил Даниэль.
И искоса бросил на Мадлен выразительный заговорщический взгляд, который Кароль не могла не заметить.
— Когда Филипп возвращается? — спросила Мадлен.
— Должен послезавтра, — ответила Кароль. — Я надеюсь, вы еще не уедете?
— Наверно…
— Я очень недовольна Жан-Марком. Он с каждым днем все больше опаздывает к обеду. Не будем его дожидаться и сядем за стол!
— Еще бы! — съязвил Даниэль. — А то как бы не прогневалась Мерседес.
— Значит, вы все же решили ее оставить? — спросила Мадлен.
— Ничего не поделаешь. — Кароль удрученно вздохнула.
— Интересно, почему? — вмешалась Франсуаза.
— Насколько Аньес славная и преданная, настолько несносна эта особа, — поддержал сестру Даниэль. Надменна, как матадор на арене, и мизинцем не шевельнет, чтобы сделать хоть что-нибудь, помимо своей обязательной работы, а ровно в девять смывается, хоть гром греми. Серьезно, Маду, по-моему, если девять пробьет в тот момент, когда она подает сыр, она сунет блюдо кому-нибудь из нас, швырнет фартук на пол и удалится прочь, как рабочий на заводах Рено, когда останавливается конвейер.