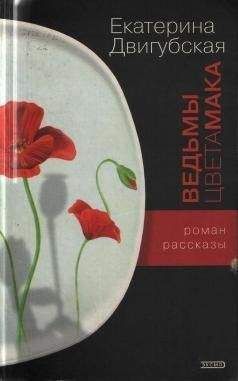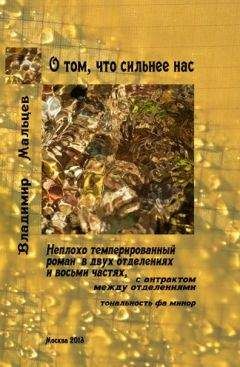Марина тяжело вздохнула. В дверь позвонили, и звонок показался родным и уютным, она слушала, вдыхая его звуки.
На пороге стоял Иван, он виновато смотрел на неё, а его руки держали жёлтые хризантемы, Марина обратила внимание, что у цветов вялые листья.
— Что это значит? Мы расстаёмся? — с вызовом спросила она.
— Нет, — но что-то в его взгляде насторожило женщину.
— Не пахнут. Ты мне изменил?
— Маша заговорила.
— Что?
— Рыся, она заговорила. Она меня назвала папой.
— А её мамой?
— Ты ревнуешь?
— Для этого я слишком уверена в себе.
— Рыся.
Она повернулась спиной, он обнял её и начал кружить по квартире, а паркет покрякивал, как старые люди, когда ты тормошишь их своей нежностью и мешаешь коротать старость. Они чуть отпихивают твои руки, бурчат, но их щёки невзначай оказываются под поцелуем, а глаза заискивающе просят не прекращать эту пытку…
Лица Марины и Ивана стали прозрачными, через них светилось счастье, сердца бились часто, и звук их сливался с поездом метро, с поездом, мчащим под землёй мечты пассажиров, с поездом, бьющим своей скоростью по сосудам подземки.
— Я люблю тебя больше всего на свете. Будь моей женой.
— Буду.
— Пойдём завтра подадим заявление.
— Завтра рано. Надо, чтобы чёрная полоса прошла и чтобы наша свадьба открыла широкую белую полосу.
— Широкую, во всю жизнь.
Он обнял её, его лицо с квадратным подбородком, с великодушными глазами, с чувственным, но не эгоистичным ртом склонилось над ней.
— Я люблю тебя больше всего на свете. Будь моим мужем.
— Буду.
— Пойдём завтра подадим заявление.
— Завтра рано. Надо, чтобы чёрная полоса прошла и чтобы наша свадьба открыла широкую белую полосу.
— Широкую, во всю жизнь.
Он посмотрел в её лицо, которое было такое беззащитное и бесстрашное одновременно. Которое подчинялось и властвовало. На родинки, рассыпавшиеся по щеке, и у него захолонуло сердце.
Они легли в постель, и их ноги и дыхание сплелись, и голова была над головой, и думали они об одном и том же, и надежда светилась впереди в бурном море их соединившихся жизней.
— Знаешь, — тихо сказала она, — я вдруг поняла, что, когда люди взрослеют, им всё меньше выпадает надежд, которыми одарена молодость. Люди становятся реалистичными и угрюмо шагают по земле. А так надо быть немного детьми, чтобы души не каменели, не теряли безумия, а оставались такими же светлыми, как и в восемнадцать лет, и дни тянулись так же долго, а не неслись бессмысленной чередой, когда не успеваешь ни за что ухватиться. Нельзя прекращать удивляться, нельзя, чтобы жажда жизни остыла. Человеческие возможности безграничны — надо только верить в это! И в сорок лет можно начать жить заново, главное, захотеть!
— Ты мне это говоришь или себе? — спросил Иван.
— Нам обоим.
Где-то зазвучал Бетховен, и жемчужный свет, омывающий их обнажённые, сильные в любви тела, чуть насторожился, а потом опять потёк по комнате, слизывая предметы.
— Откуда эта музыка?
— Не знаю, но кто-то её всё время ставит. Должно быть, тут поселился какой-нибудь рьяный почитатель «Лунной сонаты».
…Инга с расплёсканными волосами, с пылающим взором сидела на облаке высоко в небе.
Где-то внизу звучало море, похожее на водную пустыню с вздымающими волнами. Оно билось в каменистые берега. Повсюду гудел осенний ветер, предвещая смерть в зиме. Наташа посмотрела на Ингу, и лунный свет, запертый в серебро Ингиных волос, напел девушке:
— Если украдёшь, потеряешь себя. С давних времён наш род опасливо бережёт свою душу, сердце от растраты. Мы — ведьмы цвета мака, на нашем смехе летят лучи солнца, наша любовь вспахивает землю, наши слёзы орошают поля.
— Почему?
— Потому что каждый человек — это целая вселенная. И если ты будешь относиться к себе значимо, то никогда не совершишь малодушного поступка. Даже раскаяние не смоет грех с твоей души, расплата неминуема — Бог жесток и страшен в своём гневе. Зло — это яд, который постепенно отравляет человека и от которого нет спасения. Души слабы, они, как мягкие стебли, гнутся к земле, но в то же время тянутся к солнцу.
— Я верю в Бога.
— Нельзя любить Бога и не любить людей. Бог — это солнце, а люди его лучи, чем ближе к Богу, тем ближе друг к другу.
Что-то опрокинуло Наташу — верх стал низом, низ верхом. Она оказалась на дне моря, где всё бурлило сиреневым цветом, где плавали русалки с розовыми грудями, у бесстыжих дев были длинные когти, а когда они смеялись, то клыки вылезали из алых, порочных губ.
Слева от Наташи возвышался лес, он словно издавал стоны печали. Чуть приглядевшись, она поняла, что эта чаща состоит из человеческих костей, в которые дует ветер. Справа ближе к ней росли колючие растения, похожие на кустарник, они гнулись, тянули свои острые стебли, готовые в любой момент схватить и растерзать девушку. И вот одно из них раскрыло пасть, из которой повеяло чем-то протухшим, гадостным, растение рванулось к Наташе…
Она не знала, сколько прошло времени, но когда очнулась, то увидела русалку, которая плавала вокруг неё, звеня янтарным смехом. Хищное растение окаменело. Наташу била дрожь, русалка накинула ей на плечи сиреневую шаль, сплетённую из шелковистых водорослей. От этой шали по телу разлилось тепло, потом стало жарко, потом мышцы начали биться судорогами, шаль, словно сеть, связала её. Наташа не могла пошевелить ни одним членом, она начала задыхаться, захлёбываться, и чем сильнее она билась, тем меньше дыхания у неё оставалось. Растение ожило и опять стало тянуть к ней свои щупальца-щипцы, издалека долетел голос русалки:
— Размеренная жизнь. Деньги. Тепло. А иначе он тебя бросит, пузатую его ребёнком. Вставай и сделай то, чего боится душа твоя, и ты поймёшь, что мир покоряется бесстрашным. Предай ту, которая должна быть предана. Бог возвышает бедами. Ты орудие божьего возвышения, ты — благо, а не зло. Иди! Кара за наши деяния — наше к ним отношение.
Наташа проснулась, рядом с ней спал Вадик. Она прижалась к нему и попыталась отдать все свои страхи, потом опять провалилась в сон.
Вадик проснулся и с ужасом посмотрел на девушку, которая мучительно вскрикивала, биясь в судороге ночного кошмара. Он начал трясти её.
— Наташа, да что с тобой?
— Нет, — сказала она, встала и вышла из комнаты, потом вернулась, держа в руке сумку, — вот смотри.
— Что это?
— Моя погубленная жизнь. Деньги. Много американских долларов.
— Откуда ты их взяла?
— Украла.
— Украла?
— У тёти.
— Как это? Ты шутишь?
— Разве похоже?
— Я не верю.
— Поверь.
— Наташа…
— Что? Что? Что?
— Это ужасно! — сказал он, предлагая улыбкой сделаться серьёзными.
— Да что ты лыбишься, сама знаю!
— Ты же её так любила.
— Да.
— И ты для неё была как родная дочь.
— Да.
Вадик вскочил с кровати и стал одеваться. Наташа следила за ним.
— А ты что, сам не говорил — проклятая нищета, проклятая нищета! Вот и напроклинал нищету, так что мне, женщине, в самом женственном положении, пришлось стать мужчиной. Любовь, дорогой мой, это не слова, а поступки. Хочешь быть великим, делай для этого хоть что-нибудь, а не сиди на кухне и не рассуждай, что весь мир зловонен и негостеприимен. У слабого мужчины всегда много оправданий, почему его мужское достоинство болтается беспомощной плотью! Ты во всём виноват! Мерзкий маленький пачкун! Юродивый! Карлик!
Вадик включил свет. Лицо Наташи было белым от ярости. Юноше показалось, что ещё чуть-чуть — и она убьёт его, поколотит своими большими руками, забьёт до смерти. Он опустился на стул.
— Наташа, я не хочу тебя такой. Ты же…
— Ещё скажи, что я Леди Макбет?!
— В ней был аристократизм.
Девушка иступлённо засмеялась и сорвала одеяло на пол.
— А разве я виновата, что ты не можешь совершить ни одного мужского поступка? Я будущая мать, и у меня нет ни совести, ни места для принципов. Мне нужно выжить, выжить самой, спасти своего ребёнка. Я хочу денег, хочу счастья, хочу будущего!
Вадик смотрел на неё с детским испугом и не мог отвести глаз. Перед ним стояла не рыхлая девушка, которую он полюбил за слабость и робость, а бешеный зверь, готовый разорвать любого, кто встанет на его пути. Её рыжие волосы горели страстью безумного поступка, большие, набухшие груди были обнажены и не стеснялись своей наготы. Вадик бросился перед ней на колени, обнял ноги. Она отпихнула его, он упал, но опять поднялся и обнял её за ноги. Ещё несколько секунд он чувствовал, как её голени дрожат, готовые отпихнуть его, а потом они сдались, стали преданными и жалеющими.
— Наташенька, я люблю тебя. А ты меня?
— Нет.
— Врёшь!