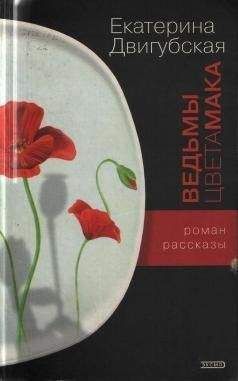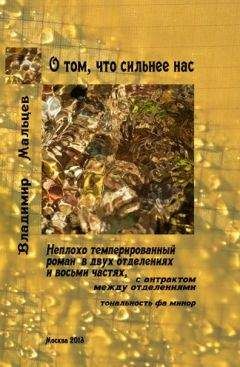— Наташенька, я люблю тебя. А ты меня?
— Нет.
— Врёшь!
— Нет.
— Ну, тогда я буду любить тебя один.
— Нет.
— Ты хочешь быть со мной?
— Да.
— Ты любишь меня?
— Да.
— Тогда верни деньги.
— Нет.
— Верни и покайся! Она же тебя любит. Эти деньги нам счастья не принесут. Они — проклятые.
— Мне страшно.
— Я пойду к ней и скажу, что это я тебя надоумил. Хорошо?
— Нет.
— Мне терять нечего, она всё равно меня не любит.
— Нет, я заварила эту кашу, я и буду её расхлёбывать.
— Нет, в конце концов, я мужчина. И ты должна меня уважать. Любовь зиждется на уважении! Мы молоды, и у нас вся жизнь впереди, и прожить её надо достойно.
Наташа залезла под одеяло и закрыла глаза, Вадик прижался к её животу.
В его униженном, обнищавшем сознании разгуливал сквозняк, хотелось надеть калоши и убежать в лес, и там одичать, потеряв свою человеческую личину в космах и бороде, и уже больше никогда не задавать себе неразрешимых вопросов, не трусить в философских разглагольствованиях и не ждать любви, которая всё равно обманет и обернётся катастрофой.
Начальник налоговой полиции Киевского района вызвал к себе старшего инспектора Диденко. Плотный мужчина в дорогих очках на тонком носе-клюве сидел за столом, читая книгу под названием «Фараон». Он был одет в приличный костюм, и его вытянутое лицо было серьёзно и многозначительно, такие люди на простой вопрос отвечают витиеватой фразой, и выражение их глаз намекает на дополнительный смысл, скрытый за сказанными словами. Отщипывая от сдобной булки маленькие куски, он клал их в маленький рот, с маленькими, бисерными зубами, видимо, он очень дорожил сдобой — когда Иван Сергеевич вошёл в кабинет, начальник поспешно спрятал тарелку в ящик стола.
— Иван Сергеевич, ты что же набедокурил? — строго спросил начальник.
— Не понял, Пётр Семёнович?
— Звонили из городского управления, требуют, чтобы ты оставил в покое гражданку… — он смахнул в ладонь крошки со стола и высыпал их в рот, взял листок с фамилией, — Добродушеву Марину Львовну.
— Не их дело! — прошипел себе под нос Диденко, оттенок его худого лица стал мучительно-бледным, почти что мертвенным, как будто он боялся, что сейчас на свет вытащат его неприглядную тайну.
— Говорят, что ты в неё втюрился, — и Пётр Семёнович закрякал своим поразительно маленьким ртом.
— Неправда! — горячо возразил Иван Сергеевич.
— Бояться нужно только не высказанных слов, дорогой ты мой сотрудник. В общем, эти говноеды из городского требуют, чтобы мы от неё отстали. Ты пока приспусти на тормоза. И не забывай, что пятая часть фараон! — Он ткнул своего подчинённого пальцем в бок, и его лицо неожиданно из продолговатого сделалось горизонтальным.
— Что это вы?
— Да так, книгу читал про египетских фараонов. Жена велела. Мы на пирамиды едем.
— Путёвки дешёвые?
— На удивление.
— А кошек с кем оставите?
— Фу их. У меня на них аллергия, а она ещё двоих притащила. Ну да ладно, такой уж у неё сердобольный характер. Знаешь что… — Он замялся, раздумывая, поймёт ли подчинённый всю глубину его размышлений, а потом вдруг начал толкать слова, как тачку, наезжая на пятки уже сказанных. — Эти пирамиды не что иное, как консервные банки. Там людей консервировали для будущей жизни — дохлого, выпотрошенного, как чучело селезня, фараона вместе с живыми родственниками и слугами. Интересно, если бы мою Катьку в пирамиде запереть вместе с её кошками? — Он раскраснелся от быстроты речи.
— Камня на камне не останется.
— Да, баба — бешеная шимпанзе! — Он самодовольно причмокнул, словно одарил жену самым лестным сравнением.
— Я пойду?
— Подожди, мне тут мыслишка интересная пришла. — Он отщипнул под столом булку. — Мне кажется, что в нашей старости люди будут по сто пятьдесят лет жить и что в скорейшем будущем случится качественный биологический скачок. Человек будет не рожать, а отпочковываться. У меня дочка три года назад родила, так они с мужем только на лекарства внучке и работают, да ещё мы помогаем. Недавно в их яслях какой-то умник тест проводил, и знаешь — из семидесяти детей только трое вполне здоровых. Или мы вымрем, или сэволюционируем. Ты мне ничего не забыл оставить?
— Я же позавчера приносил.
— Больше ничего?
— Нет.
— Ну, тогда иди.
Всю ночь Маринино ателье гудело работой, чтобы успеть к завтрашнему дню сдать заказ. Она сидела в общем зале и пришивала очередную пуговицу. В голове мутилось, нестерпимо ныла поясница, руки отекли и покраснели. Все уговаривали Марину пойти домой, но она не шла, было стыдно оставить портних, они ведь тоже устали. Она ощущала себя старым маршалом с ишиасом и полиартритом, который не может покинуть поле боя и все надежды которого посеяны головами убитых, и если он выиграет, то они расцветут цветами мака, а если проиграет… Они обернутся проклятием, головами Горгоны, которые своими змеями всю жизнь будут жалить совесть.
— Мы женщины много сильнее мужчин! — громко провозгласила она отупевшим от бессонной ночи работницам. Те, насупившись, молчали, с уставшей сосредоточенностью следя за строчкой, чтобы та не сделала неожиданного вывиха.
Вдруг мутное отупение прорезал Маринин крик — на пороге стояла Наташа в жидкой куртке, раскисших от грязи ботинках. Марине показалось, что это призрак, настолько не подходящим и безжалостным было её появление. Зачем приходить в ателье в ночь перед сдачей заказа? Теперь придётся тратить время на разговоры. Наташин взгляд был не по-юному скорбным, казалось, под матовой, розовой кожей каждый мускул был напряжён в мучительном ожидании.
— Ты что?
— Я пришла.
Марина встала и быстро, словно страшась чего-то, пошла в кабинет, плотно закрыла дверь, чтобы ни единый звук не вырвался наружу.
— Как Инга?
— Ничего. Я тут к маме заезжала, она тебе суп передала.
— Да я уж скоро домой.
— Ну, так днём и съешь. Суп вкусный, с тефтелями, я уже поела.
— Ты беременна?
Наташа кивнула, и опять выражение её лица окаменело, а руки старчески поджались к груди. Марина раздражалась всё больше. Чего стоит и молчит! Картина поруганной чести, ещё пытающейся сохранить приличие, смешна. Стоять беспомощным болваном и блеять взглядом! Наташа промямлила, что уже пять недель, как она носит в себе ребёнка, пол неизвестен, потому как рано.
— Счастливая! В душе растает много снега, ручьём заплачет в сердце нега! — не в такт своим мыслям сказала Марина.
Наташа положила сумку на стол.
— Это я украла, — выдавила из себя девушка словно слоящимся от страха голосом. Марине показалось, что сумка издала вздох облегчения.
— Знаю.
— А почему в милицию не пошла?
— Ты зачем розу разбила?
— Она всё равно высохла!
— Нет!
— Прости меня, этого больше никогда не повторится.
— Тут надо стены перекрасить. А то цвет какой-то коммунальный! — сказала Марина.
— У меня словно помутнение было.
— Ответь мне на один вопрос и дай слово, что скажешь правду, — Марина протянула руку. — Ты бы сама ни в жизнь до такого не додумалась…
— Вадик ничего не знал! — горячо воскликнула девушка.
Марина пытливо посмотрела на неё и помяла руку.
— Клянусь здоровьем своего ребёнка.
— Дура! — крикнула Марина и кинулась к племяннице. Та вздрогнула, Марина обняла её и услышала, как испуганно бьётся её сердце, а под ним ещё одно — маленькое и родное.
— Нет, наоборот, он предложил всё взять на себя. Вадик абсолютно честен перед тобой!
— А перед тобой? Он на тебе женится?
— Да.
— На свадьбу пригласишь? — Марина положила деньги в сейф. — А может, и мою вместе сыграем? — сказала она, не оборачиваясь. Наташа неотрывно следила за ней.
— Было бы неплохо! Я ничего не трогала!
Светлана медленно шла по дороге, загребая ногами рыжие листья опавшего лета. Она посмотрела в небо. Там за одним из облаков притаился толстый ангел, каких любил рисовать Мурильо. Он полулежал на облаке и сосредоточенно чистил свои перья, так что они осыпались снегом на землю. Улыбнувшись Свете, ангел слетел и, деловито усевшись ей на плечо, начал болтать пухлыми ногами. Светлана обмерла — перед ней сидело наглое, розовое создание и вертело щекастой рожей. Глаза его светились лукавством, в них совсем не было строгости, а было уютное озорство. Он ущипнул Свету за подбородок и чуть писклявым голосом сказал:
— Привет.
— Ты кто?
— Облако.
— Райское?
— Люди так любят задавать ненужные вопросы. Я, между прочим, тут по твою душу.
— А, когда я умру, куда попаду — в ад или в рай?