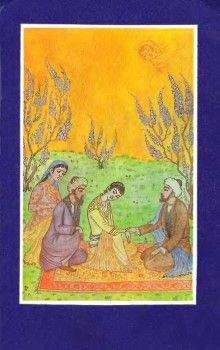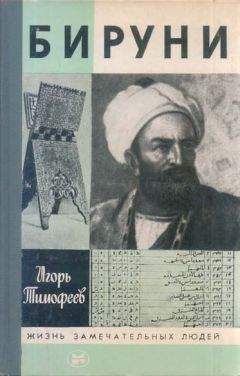Бируни хотел тихо, на цыпочках покинуть комнату, но человек в кресле пробудился. Медленно приподнялся. Обернулся. В глубоко запавших синеватых глазах его мелькнуло изумление. А потом вспыхнула радость — в глазах и в притягательной, совсем не по возрасту яркой, откровенной улыбке:
— Ассалам алейкум, устод!
«О творец! Этот чуть хрипловатый голос — это ведь Абу Али, и улыбка такая широкая — это Абу Али, и лоб, будто купол огромный, — Абу Али, Абу Али, Абу Али!»
— Здравствуй, Абу Али!
Бируни прижал к себе высокого худощавого Ибн Сину.
— Неужели настал день, когда я и вправду увидел тебя, Абу Али?! Неужели пришел такой день?! — все повторял и повторял Бируни.
То со слезами на глазах обнимались, то, держась за руки, отрывались, смотрели друг на друга, словно не веря во встречу.
Наконец, взяв стулья, уселись — глаза в глаза.
Ибн Сина, виновато улыбаясь и не отрывая взгляда от Бируни, сказал:
— Слава богу! Снова вижу вас, как и прежде, бодрым, как и прежде, здоровым!
— Благодарен за утешение! Но… я уже не тот Абу Райхан, которого ты знал, Абу Али! Светлые дни моей жизни прошли.
— Но разве стареть — не закон природы, наставник? Мы стареем.
— Как обидно, что даже человек, названный великим исцелителем, тоже подвластен этому жестокому закону.
Ибн Сина все так же весело улыбался, грусть таилась где-то глубоко на дне его взгляда.
— В молодости, когда нам неведомо, что такое сомнение, когда наш ум еще не окреп, мы, учитель, не то что этот закон не признавали, мы ведь считали даже, что можно предотвратить саму смерть! А вот теперь, когда стали отличать черное от белого, теперь… стало ясно, учитель, что человеку не дано разгадать тайн подлунного мира. Он слишком сложен, сей бренный мир…
— Хочешь сказать, что на старости мы поумнели, Абу Али?
— Поумнеть, к сожалению, я не поумнел, учитель, но зато познал истину, которую давно изрек Сократ: теперь я знаю, что ничего не знаю!
Бируни понравилось, как говорил Ибн Сина: четко, твердо и — подсмеиваясь над самим собой. Он с любовью смотрел на друга. Вдруг, прервав его, попросил:
— Абу Али! Прошу тебя, не обращайся ко мне — «устод». Тебе ли, создавшему «Аль-Канон», тебе ли, кого называют по праву «шейх-ур-раис», называть меня учителем? Наоборот, это я тебя должен величать устодом, Абу Али!
— Знаю, скромность — украшение человека. Но разве для вас, учитель, я — «шейх-ур-раис»? О нет!
— Ладно! Не будем об этом… Что нам возвеличивать друг друга, Абу Али!
— Совершенно верно, учитель!
Они приумолкли, будто смущенные собственными любезностями.
Потом Бируни сказал о том, что его волновало:
— Когда я думаю о тебе, Абу Али, то всегда вспоминаю ворота Гургана, прощание наше и слова, которые ты сказал в ту прощальную ночь.
— Да, учитель, я тоже помню ту ночь.
— Ну и как, нашел ты справедливых властителей, о которых тогда мечтал?
— Нашел, — грустно улыбнулся Абу Али. — Куда бы ни забросила меня судьба, всюду встречал я одних справедливых властителей. Так им все говорили, так они сами считали. В конце концов не осталось места, куда я мог бы спрятаться от них. В Джурджане с трудом сбежал от справедливости Кабуса Ибн Вушмагира. Правительница Рея — Саида-бегим тоже вынудила меня прибегнуть к бегству как средству спасения.
Бируни подумал о Хатли-бегим, в глазах его вспыхнули веселые искорки:
— Я слышал, что эта видавшая виды луноликая красавица Саида-бегим была безумно влюблена в тебя. Это правда, Абу Али?
— Наверное, устод! И эту насмешку судьбы пришлось пережить! — рассмеялся Ибн Сина. — И Саида-бегим, пятидесятилетняя красавица правительница, все время говорила мне о справедливости и необходимом воздаянии за справедливость, так что ваш покорный слуга готов был бежать хоть в преисподнюю от этого торжества справедливости. Но, увы, убежав от дождя, угодил под град, как говорится. Шамс-уд-Давля был еще добрей, еще справедливей… Ну, да что ж я рассказываю вам — вам, кто тоже немало положил сил на поиски справедливых властителей.
— Да. Искал. Тщетно… Долго и тщетно. Вот здесь даже искал, в Газне… Успел ли взглянуть на Газну?
— По дороге сюда бедный дервиш кое-что увидел, учитель. Поистине велик и красив город! Но эта красота, эти позолоченные минареты, лазурные купола, пышные дворцы — для кого они и за счет кого?
— Абу Али! Благоустраивать свой край за счет разорения других — непростительный грех. Прекрасные беломраморные дворцы, могучие цитадели, лазурно-купольные мечети — все это построено за счет грабежа Индии и Мавераннахра. Как умеет грабить Махмуд — это я видел сам, своими глазами. От «справедливости» таких властителей мир наш кажется черней ночи! Ты сказал, что все они стоят друг друга. Выходит, не служи я султану Махмуду, был бы на службе у «справедливейшего» Шамс-уд-Давли! Если не у Шамс-уд-Давли, то у луноликой Саиды. Но… Что же тогда делать нам, ученым людям, Абу Али? Что нам остается?..
Бируни спросил об этом так, что у Ибн Сины сжалось сердце. Он положил руку на колено Бируни:
— Устод! Ни у меня, ни у кого-либо другого из нас, кому дорога наука, дорога истина, нет права упрекать вас в том, что вы служите султану Махмуду. Знаю, отказались бы вы приехать, вас бы связали по рукам и ногам и привезли бы сюда. Я убегал, но удачно лишь до поры до времени… Но не это важно. Другое важно. В этом мире и добро, и зло — перемешаны. Хочешь искать истину, заниматься наукой — вот добро, — так иди к тем, у кого деньги и власть, кто сам есть зло, потому что ведь ни у нас, ни у простого люда нет средств, чтобы возвести ну вот хотя бы этот замечательный храм науки. Это ваше детище, учитель, хотя приказал возвести его жестокосердый султан.
Лицо Бируни просветлело. Откинув голову, посмотрел он на небо, видное через отверстие в потолке:
— Да, Абу Али, этот храм науки стал для меня единственным утешением. Когда на душе темнее ночи, прихожу сюда и успокаиваюсь, слежу за светилами, читаю, пишу, думаю. Как это сладко — думать!.. О тайнах природы и нашей жизни, о недолговечности и радостях человеческого бытия… Я все тебе покажу, Абу Али. Написанные мной календари, таблицы звезд!..
Ибн Сина с восторгом и любовью все смотрел и смотрел на Бируни.
— А Индия? Говорят, вы написали большую книгу про Индию? Она уже переписана?
Бируни горько вздохнул:
— Прежде чем отдать в переписку, я обязан показать ее султану Махмуду.
— Зачем?
— А затем, что… Ты говоришь так, Абу Али, будто не знаешь «справедливых властителей»… Стоит произнести мне «Индия», и султан Махмуд тут же думает, что это что-то вроде названия касыды про его победоносные походы. Он ждет книги, в которой воспевают его доблести воина, ими он хочет остаться в истории рода человеческого. А моя книга «Индия» — совсем о другом. Это капля того моря уважения к великой стране, которое живет в моей душе с тех пор, как я там побывал.
Глаза Ибн Сины опять засверкали, подобно глазам молодого талиба — любителя знаний.
— О устод! Хоть одна-то переписанная книга найдется? Дайте на несколько дней!
Бируни прищурился:
— Пожалуйста, только так: ты дашь мне переписанный «Аль-Канон», я тебе — «Индию».
— Баш на баш?
— Баш на баш!
Да, лучше шутка, лучше не бередить старых ран. Но и шутка переходила у них в грусть — грусть мудрецов, бессильных победить зло этого мира.
В ту же самую ночь главный визирь Али Гариб вернулся из крепости Кухандиз в свой городской дворец. К этому вынудило его тайное послание от Хатли-бегим.
Доставил его в крепость Пири Букри. Он осведомил главного визиря о последних событиях во дворце. Хотел было горбун после этого поведать и о своих бедах, высказать и просьбы тоже, по, прочитав послание Хатли-бегим, главный визирь так разволновался, что лишь краем уха слушал горбуна, а уж на просьбы его и совсем не хватило ни времени, ни терпения.
Блюдя осторожность, быстро собрались, поскакали в город. Сначала примчались во дворец особо шустрые слуги. Раньше главного визиря. Предупредили привратника. Тайность была соблюдена, их, кажется, никто не увидел. Дворецкий провел господина — а вместе с ним и Пири Букри — не парадным входом, а одним из боковых, и, против обычного, не на второй ярус, а в подвальные помещения, о которых мало кто во дворце и знал.
Помещение, куда они прибыли, состояло из двух комнат, соединенных между собой. И та, и другая комнаты были убраны по-нищенски бедно. В первой, в углу, приткнулось ветхое кресло, зато на полу во второй расстелили большой мягкий ковер, а на середину выставили восьмигранный столик на низких ножках, принесли и подносы с едой, довольно изысканной.
Значит, кого-то предстояло встретить.
Главный визирь снял с себя скромный черный чекмень и повесил его на крюк в стене, скинул и поношенную меховую шапку, вместо нее водрузил на голову бархатную тюбетейку с узором цветка персика. Вот и все приготовления.