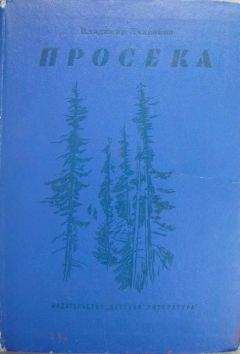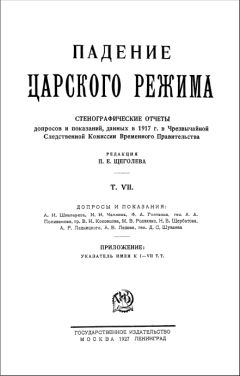— Зачем ты написал мне записку?
В темноте я вижу лишь её глаза. Они большие.
— Неужели ты не знаешь?
— А почему ты раньше меня дразнил всегда? Сколько ты мне горя принёс! Ты знал всё и дразнил. Зачем?
— Что знал? — спросил я, понимая, на что она намекает. — Я не дразнил тебя. Я просто шутил. Смотри, какие звёзды! Вот здесь. Стань сюда.
Задрав голову, я смотрю в тёмное небо, густо забрызганное звёздами. Тысячу раз я их видел. Мне они ничуть не интересны.
— Осенью они будут падать, — шепчет Тамара, — ты любишь смотреть, как они падают? Я люблю. Я люблю сидеть в саду нашем, смотреть в небо. И знаешь, — она тихо смеётся, — и знаешь, когда полетит звезда и в это время упадёт яблоко на землю, я вздрагиваю от испуга: мне кажется, что это звезда упала.
— Спустимся к реке? — спросил я.
— Ага. Пойдём. Вы где с ребятами купаетесь?
— На повороте. Я тебя никогда не видел на речке,
— В этом году мы ещё не купались. А вообще мы ходим к роще. Я знаю, ребята там не купаются.
— Ты с кем ходишь?
— С мамой, с тётей Лекой. И одна люблю.
— Будем ходить вместе?
— Да.
Поверхность реки гладкая. Течения не слышно. От птицесовхоза донеслись равномерные удары: «дун, дун». Это сторож бьёт по обломку рельса, подвешенному к ветке дерева возле конторы птицесовхоза.
— Одиннадцать уже, — сказала Тамара, когда удары затихли. — Ты поздно домой приходишь, Боря?
— Когда как. А ты?
— Я всегда в это время уже ложусь спать. Правда, не сплю, а читаю. Читаю, читаю, а потом и засну незаметно. Как темно! Даже страшно.
— Со мной страшно?
— Нет, с тобой не страшно. А вообще… Одна б я померла тут от страха. Ты знаешь, где наш дом?
— На Пироговской.
— Ну да. За садом у нас ручей протекает, так в нём убитого человека нашли.
— Кто же он?
— Не знаю. Я туда боюсь теперь ходить.
Тамара оглянулась, вздрогнула. Должно быть, воспоминание об убитом нагнало на неё страх.
— Ты не бойся, — сказал я, — со мной ничего не бойся.
Мы присели. Я положил левую руку на её плечи. Сделал это будто небрежно, будто в этом нет ничего особенного.
— Ты чего дрожишь? — сказал я. — Холодно?
— Пошли домой, Боря.
— Почему?
— Пошли. Мне страшно.
«Сейчас я её поцелую», — подумал я.
— Пойдём, — сказала она и поднялась.
Через три дня нам сдавать историю. К этому экзамену я готовиться не буду. Историю я знаю великолепно. Я спросил, боится ли она экзамена.
— Боюсь, — говорит Тамара, — я всегда боюсь экзаменов.
Я хочу что-то сказать, но мысль о поцелуе вертится в голове. До её дома мы молчали. Калитка у них оказалась закрытой. Я перелез через забор, открыл. Поцеловать Тамару так и не удалось. Она заспешила домой.
— Я пойду, пойду, а то мама рассердится.
— Завтра там же и в то же время, да?
— Да, да.
Завтра обязательно её поцелую.
У нас калитка тоже закрыта. Двери в дом распахнуты. На столе кружка молока и кусок хлеба. Тихо-тихо. Все спят. Первый час. Быстро пробежало время!
— Боренька, где ты был?
Мама не спит.
— Гулял. В городе гуляли. К реке ходили.
— Ложись спать.
— На огород идти мне завтра, ма?
— Нет, я сама.
— Спокойной ночи, ма.
— Спокойной ночи.
Я на цыпочках подкрался к ней, поцеловал в щёку.
— Двери не закрывать, ма?
— Не надо.
Дина спит. Или притворяется? Раздевшись, вытягиваюсь под простынёй.
— Ты спишь, Динка? — шепчу я.
Спать не хочется. Хочется поговорить с ней о чём-то хорошем. Почему мы всю жизнь ссоримся? Не ссоримся, ссора — это нечто другое. Мы по душам с ней не разговаривали. Почему?
— Дин?
Она отворачивается к стене.
— Не мешай спать, — шепчет она.
— Ну и дрыхни, — говорю я, — можешь перебираться из этой комнаты, если тебе мешаю.
Я проснулся поздно. Родителей нет. Выпил молока и вышел на крыльцо. Сестра расстелила под кустом сирени одеяло. Читает учебник, поджав под себя ноги. На ней просторный сарафан из цветастой материи. Взглянула, едва заметно усмехнулась губами. Вера Александровна вернулась откуда-то домой. Я здороваюсь с ней, она отвечает, улыбаясь. Она теперь ходит без костыля и, здороваясь, улыбается. Приезжал её сын Леонид с женой. Он полковник. Служит где-то за границей. У него тонкие усики, горбатый нос. Имеет два пистолета. Один носит в кобуре, второй хранит в чемодане. Говорит, что этот второй — память о хорошем его товарище, погибшем на фронте.
От забора, сарая, кустов сирени и акаций лежат на земле резкие тени. «Как в лунную ночь», — мелькает мысль. Хлопнула калитка. Это Витька. Он в майке и босой. Мы все так ходим днём. Мы бы в одних трусах ходили и по улицам, как год назад, но мы выросли из трусов. И если идёшь куда-нибудь со двора, надеваешь брюки.
— Будем учить? — спрашивает Витька, садится на бревно. Он опять остригся наголо. Кожа на макушке шелушится от солнца. Девчонки его не интересуют совсем, то есть, как мне кажется, он и не подумывает встретиться с какой-нибудь наедине. Он запросто бывает у Сивотиной. Да и к любой заглянет, попросит книжку.
Учёба даётся ему немного трудней, чем мне. Я прочту урок раз, два. Повторю и запомню. Он прочитает, повторит, прочитает, повторит без книги. И ещё раз прочтёт.
— Начнём, Витька, — говорю я.
Учим мы в сарае. Устроили из досок топчан. В полдень, когда на улице от жары рябит в глазах, в сарае прохладно. Соломенная крыша не прогревается, стены бревенчатые. И вечера часто мы проводим здесь. Заявляются Лягва, Крыса, которого прозвали почему-то Паинькой. Другие ребята. Читаем, играем в карты, болтаем о всяких делах. Здесь хранятся наши удочки, сак, которым ловим рыбу. О Тамаре Лысенко я ребятам не говорю, хотя так и подмывает похвастать. Не тем, что я с ней дружу и она меня любит, — подмывает рассказать о самом факте: я встречаюсь с девчонкой. Они скажут: «С какой?» Я скажу: «С Тамарой». Они станут дразнить её. Положим, дразнить не будут, и не позволю, но всякие словечки, шуточки будут отпускать. Да такие, что и но придерёшься, а всё понятно.
— Давай, Витька, ты первый вслух читай. Потом я.
— Хорошо.
Почему он такой худой? Мускулы дряблые, и кости торчат. Голодным он не бывает. Недавно ещё они с матерью голодали. Отец у них не вернулся, его убили под Варшавой. Мать работала штукатуром в горсовете, сейчас поступила в столовую, и у них появилась еда. Всегда на столе хлеб, суп, варёная картошка. А он такой же худой и слабый. У меня мускулы сильные. Перейду в десятилетку, займусь спортом. В десятилетке спортзал. Там турник, штанга. Разовью мускулы ещё больше. Скорей бы вечер. Сегодня поцелую её. В губы. Нет, сначала в щёку, а потом в губы… Что это Лягва не показывается? Учит, видимо, дома. А может, на речку смотался. Скоро он будет жить совсем один. Леонид Николаевич уехал в Москву. Мария Игнатьевна ещё здесь. Она должна скоро родить ребёнка. Дом они продают соседу, одна комната остаётся за Лягвой. Сосед должен кормить Лягву до тех пор, покуда Леонид Николаевич не заберёт его. А когда, он сам не знает… Я опять поздно приду сегодня. Что дома скажут? Стой, стой…
— Витька, давай у нас в сарае спать? В комнате, знаешь, душно. А?
— Давай, — соглашается он, подумав.
— Твоя мать ничего не скажет?
Он опять думает долго.
— Ничего. К вам она отпустит. Тем более теперь.
— А что?
— У нас ремонт. Соседи переезжают. Ремонт горсовет делает.
— Приходи сегодня.
— Хорошо.
В этот вечер я поцеловал Тамару. Поцеловал в щёку. Она молчала. Я поцеловал ещё и ещё. Я ждал чего-то необыкновенного после этого. Ничего не произошло, и я не знал, целовать ли мне снова. И не знал, что сказать, потому что Тамара вся съёжилась, стала меньше, тоньше. Губы у Тамары дрожали. Мне было жалко её. Она молчала. Я поднял из-под ног палку и бросил в реку.
— Пошли в город, — сказал я, — ты хочешь в город?
Она молчала. Пристально смотрела, смотрела на меня. Потом повернулась, и мы пошагали к городу. Около своего дома она юркнула в калитку. Я слышал, как шаги её простучали по дорожкам. Вот и всё, думал я, вот и вся любовь. Врут в книгах, что за один поцелуй можно отдать жизнь. Не спят ночами, страдают. На дуэлях дрались из-за женщин. У нас на кулаках дерутся. Почему она убежала домой? Она же любит меня…
До экзамена я не вижу Тамару. Она нигде не появляется. После экзамена, который я чуть было не провалил, мы опять встретились за парком. Она была грустная. Я старался быть весёлым. Она всё хотела меня о чём-то спросить. Я допытывался — о чём. И так почти месяц мы встречались. Потом она неожиданно уехала в Орёл насовсем: отец её работал начальником в торге, его перевели в Орёл. Перед отъездом мы с ней простились поздно вечером в горсаду. Она обещала мне писать. Я тоже. Неделю спустя получаю одно письмо, второе. Каждое на четырёх страницах. И последнее письмо ошеломило меня. «…Боренька, хороший мой, я тебя не могу забыть, я приеду в Петровск. Только напиши, что ты тоже и так же любишь меня. Я созналась во всём маме! Я ей всё рассказала, а она говорит: «Не рано ли тебе?» А я говорю: «А когда же будет поздно?..» Почему не пишешь? Что-нибудь случилось?..» Дальше и не мог читать. Совал письмо в карман и, стиснув зубы, глядя в землю, спешил по улице, всё равно куда. Что мне ответить? Она рассказала матери! «Я созналась во всём маме!» Значит, она так сильно меня любит? А я? А я рассказал бы маме? Люблю ли я её? Она уехала, а я даже не погрустил ни разу! Значит, я не люблю её. Что же делать? Так и написать ей? Нет, прямо писать нельзя. Я чувствую, что так вот взять да и написать: «Я тебя не люблю» — нельзя. Зачем же тогда целовал её?