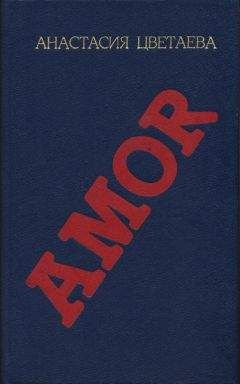В этот миг постучали в дверь на крыльце. Ника пошла отворять. На крыльце стоял Мориц. Он был в пиджаке, темном, глядел ей в глаза.
— Вы не спите ещё? — спросил он — голосом уже менее хриплым.
Ей так было трудно к нему обратиться, как если бы говорить под водой. Что‑то она сказала.
— Я так полагал — что не спите! Я боюсь, вы не поняли? Сера!.. Стоило бы одному бараку вспыхнуть — от всех одна бы зола осталась: ветер! Мог я думать о здоровье? Я бы за все ответил. А люди? Оставить их без крова? И — если бы я этого не сделал, жена и дети не увидели бы меня никогда. Я бы получил второй срок.
Мориц, объясняя, долго говорил. Она — молчала.
— Есть минуты, — сказал он, когда нельзя помнить о — теле! Оно должно подчиниться. Нервная система командует, по Павлову! Если же нет — значит, тело уже не годно, и нечего о нем жалеть! Я это хотел вам сказать. А теперь — извольте ложиться, и я пойду — лечь!.. — Он ушел, не прощаясь.
А Ника… В её душе — восхищение и отчаяние… Что было из них — сильней?..
Придя в столовую к ужину, потянув воздух, Ника сказала Морицу по–английски:
— Вам лучше не ночевать ещё тут сегодня, тут — кроме запаха — ещё сыро…
— Я не буду ночевать здесь эту ночь, — ответил он мирно, — но я думаю, что в бюро хорошо бы вы присмотрели за ними, не доверяю их способностям водворения порядка!
— Хорошо, — отвечала она.
Матвей звал её разбирать в тамбуре матрацы и одеяла, требуя, чтобы она унесла — все свое. Она схватила в охапку все, что могла удержать, и, так как руки больше взять не могли, сунула в уголок возле узла с чьей‑то постелью то, что держала в руке — книгу с вложенными в нее листками поэмы. Забежала второй раз за тюфяком, положила книгу на стопку белья, лежавшего на скамейке, и поспешила к себе. Вернувшись, когда постелила постель, она остановилась в недоумении, тотчас перешедшим — в испуг. Не было ни книги с поэмой, ни белья, ни скамейки!.. Она метнулась обратно в барак, бросилась за Матвеем.
— Ника, — орал Толстяк, — забирайте свою посуду, а то я тут все переколочу к чертовой матери, с этими клопами!
— Да погодите вы! — отмахнулась Ника. Ужас того, что если кто‑нибудь прочтет поэму — догадается о её героях, стиснул её тисками. Кривые страшные зеркала, в которых отразятся и талант её, и её мука усмешечкой "Скверного анекдота" Достоевского, потрясли её всю в один миг. Она выскочила в ночной дождь. В самых дебрях тамбура Матвей готовился колоть дрова.
Сбивчиво, жалобно, повелительно — сразу втолковывала ему для него невнятную суть: он понял одно — искать что‑то нужно. Уваженье к бумагам проникло даже в него. И когда дело было уже "на мази", и он, бросив дрова, пошел на помойку ворошить то, что с газетами и бумажками он туда выбросил, и вытащил часть упавшего на пол Никиного справочника с подмокшими листками поэмы, — Толстяк заорал во весь голос: с — Я тебе, сукину сыну, ноги переломаю, если ты тут с пустяками будешь возиться! Целый день, лентяя, не было, а теперь писульки какие‑то ищешь? Комнаты мести надо! По чистому натоптали — в хлеву‑то чище! Книжки! Бумажки! — обернулся он к Нике. — То‑то вы о работе радеете! Писульки день и ночь! Я — живо, — он задыхался, — я в два счета вам блат устрою, только шепнуть в Управлении, чем вы тут на работе заняты — англичане! По помойкам бумажонки искать!..
— Да ну тебя, разорался! — кричал Худой — и тихо: — вот услышит шеф, как ты с Матвеем говоришь — да и с ней, тоже… Ну тебя, — и он "выразился".
Матвей, только что туго уразумевший, что можно и не искать бумажки — что бумажки — не те! за которые ему Мориц шею намылит, косо взглянул на Нику, подошел к Толстому.
Ника стояла в тамбуре и под звуки дождя, при свете, падавшем из окошка, перебирала, идя мелкой дрожью, мусор, газеты, куски затоптанной белой бумаги, листочек поэмы, сырой, но ещё живой.
— А я што? Рази я знаю — бумажки? — трепал языком Матвей, поощряемый Толстяком. — Мне што? Как Мориц сказал — штоб в два щета все убрать в тамбуре, — я все захватил и понес… А куда нести? На помойку.
"Мориц! — повторила про себя Ника одним дыханием. — Нечаянно! По его приказу случилось!"
Но, должно быть, судьба решила, что на сегодня — довольно. Ника нашла большую часть листков, может быть, вспомнит наизусть остальное? Но нацело пропала работа всего дня, так удачно сделавшая целое — из разрозненного, это не воссоздать меж рабочих часов, после вчерашнего дня! В каком‑то озаренъи работалось. Держа в руках мокрое, с потекшими строчками, она счастливо улыбалась: миновала опасность прочтения поэмы — посторонним. Счастье, что Матвей "схватил — и понес!". В сто раз лучше помойка, часть поглотившая, чем вынесение Морица и себя — на позор. И вдруг — разрядкой всего дня — у Ники начался смех! В первый раз она поняла, перебирая листки, что путного о женщинах, о тех — не написалось! Жило в поэме только двое: герой и — автор. Странным образом погибла в мусоре главка — о Женни. Порванная, но уцелела — Нора… Вернулось в прошлое, не став настоящим, все остальные тени — собственно, только наметка на них! Ну так что ж? Она уже не смеялась, все равно бы он их не признал за своих, вины моей нет: я так старалась. Тут она вдруг вспомнила, что ведь и белья её — нет… Целой стопки! Она совсем позабыла о нем! Такая беловоронья сущность, за нее Мориц бы упрекнул её: не словами, а тем, как он бросился бы искать белье, свое. Почему ей все равно, что белья нет? От усталости? Неужели его — искать? Она шарила по полу — нет ли его тут где‑то. Нашла у бачка с водой затопленное кем‑то, скинул — унося скамейку (не Матвей!..). Это её взорвало. Раньше, чем она успела подумать: "Кто скинул мое белье, чистое, на пол?" — услышала она свой звонкий, негодующий голос.
— Кто взял скамейку?!
— Какое ещё там белье! — отозвался бешеным криком Толстяк. — Вы, Ника, мне попадетесь под горячую руку — не обижайтесь!
"Значит, Морица нет, если он так обнаглел… — мелькнуло в ней. — Значит, Мориц уже пошел — лечь! Спит, может быть, — после бессонной ночи".
— А идите вы — в хорошее место! — крикнула Ника и подивилась мощности, бесстрашию своего голоса в борьбе с наглецом. — Боюсь я ваших горячих рук! — оччень!
Они стояли друг против друга. Она протянула к нему свисавшее с её рук белье, смятое, со следами земли. И внезапно Толстяк — померк. Она повернулась и пошла прочь.
"Отчего на душе мир? Оттого, что Толстяку стало жаль белья? Нет: голос Морица — она заметила — уже не был хриплым…" Она глядела в темный потолок, думала о поэме. Снова будет бессонная ночь? Её тревожило то, что она не видела свою натуру — скульптурно: вокруг Морица не обойдешь. Что делает, например, он в природе? Ему бы — ка–деется ей — было бы везде то душно, то неустроенно… то муки — он бы все стремился уехать куда‑то — где лучше! Скорее всего, кабы мог — сел на пароход и уехал куда‑нибудь (неосознанно!) — средостение к природе видеть её, чувствовать, но от нее не зависеть, ехать на каком‑нибудь механизме (интересно, сколько километров в час, марка?). Какого строения мимо плывущая гора? — и лежать не на дикой траве, а в шезлонге…
Так это в нем, не так? Если не так — чем он составляет о себе такое впечатление? (Оставляет, составляет? — и так, и так можно). Если это аберрация? За окном грузовая машина медленно проехала неширокой дорогой между бараками. Луч света прошел по стене.
…Мориц — изнежен? В быту — как кот Синьор: съест кусок вмиг, а моется потом полчаса! И ничего не решишь о Морице, — сама Жизнь! Только она установила, что он к её здоровью, быту, сну — безразличен, как он входит с пакетом и — вбок глядя: не надо ли ей масла? Ему достали, а у него ещё есть. Положил пакет ей на стол, точно он жёг руки (запомнил её слова Жоржу, что без мяса жить можно, без масла — нет?!)
Есть два типа, думает Ника: одни, как клюква в сахаре, он сверху, а внутри — кисло. Другие, как орех: сверху кора, а внутри — концентрат питанья и вкуса. Мориц — второго типа. А как я о нем пишу? В поэму надо дать свет не менее ярко, чем тьму. Это трудно, даже Данте не удалось: "Ад" — силен, "Рай" — слаб. Зло — живописно, его каждый жест — складка тоги. А добро — застенчиво, избегает жеста… А у меня что в поэме: каждый темный жест дорос до трагедийности, а, по существу, с Морицем то же, что со мной: сердце не соглашается с моими выкладками здравого смысла о нем — как у него во всей его жизни.
Он движенья сердца оценивает как слабость, но не это важно. Это же опять выкладка здравого смысла — о сердце! Важно, что действует он по велению сердца, не по рассудку. Вся эта история с "балаганом", пережитая мной как удар!.. Как непоправимое, когда просто обмолвился человек, потом — заупрямился. Ведь он временами сам чувствует свое мальчишество. Глупость, смешная во взрослом. А ты не поняла? Вот так — автор!