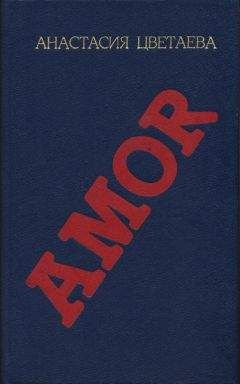На приказ из центра о сокращении — "надеюсь, улажу" — и ладил. Что ж не ладилось тут сейчас? Поняла ли она в ту ночь несовместимость его главных и её главных карт?
Что не уступит никто — было ясно, вывод напрашивался сам собой. Рубашки были починены, носки — тоже. Оставалась зелёная шелковая фуфаечка. Она стала вдевать нитку в ушко, приблизив к лицу. Нитка — лилипутным канатом перечеркивала очерк бараков и кусочек неба. Г де‑то пел тот самый голос женщины, который она не раз узнавала по радио, и песнь, ею слышанную однажды весной, тут же:
Вы–хо–ди–ла, песни заводи–ла,
Про степно–го сизого орла,
Про того–о, кото–рого люби–ла,
Про того, чьи письма бе–регла…
Что‑то тоже с ней тогда было, какая‑то горесть! Забыла — какая! Так и это — забудется! Фуфаечка была кончена.
А почему это всегда было, когда она хотела все кончить — что‑нибудь непременно случалось, что её возвращало к нему! Или он получал из дому плохие вести: кто‑то заболевал — там, или ему хуже делалось со здоровьем, или эта история с сокращением, или как во время одной из размолвок она услыхала, что пропал его любимец — пес Мишка, и она бросилась искать его везде. Не найти ему Мишку, когда она, может быть, могла это сделать, — было предательство; все же его не найдя, она, вернувшись, узнала, что Мориц тоже ходил искать его, а шел дождь, он промочил ноги, был раздражен (не было Евгения Евгеньевича, чтобы этот её упрек услышать, понять, как он не прав. Он тогда сказал, что Мишка — это Морицева забава. Что он через неделю ему надоест — и он велит его выбросить!).
Через час — Ника сидит за столом и слушает:
— Нет, а ещё один магазин на Кузнецком, — доглотнув сладкий соус из халвы и варенья, устроенный в поллитровой банке Толстяком, говорит Худой.
Но на пороге Мориц:
— Калькуляции готовы?
От усталости дня и работы, от настороженности встреч с ним, самозащитой, должно быть, — шли перед ней сцены Детства, вставали мать и умерший брат, миражи в степи под Ислам–Тереком, татарский праздник Кайран–Байрам, тот хутор, где она была счастлива — "как в раю". Медленно переворачивался, как узоры Большой Медведицы над крышей. Рождественский и Пасхальный отцовский дом, натертые паркеты (как в доме Евгения Евгеньевича — "как жёлтое стекло", хорошо сказал он!), знакомые книги на трех языках! бессмертные в памяти коты и собаки, уют свечей и ламп керосиновых, горящие печи, парад люстр, гостей…
Её ласковое детство вспоминать — как пить ключевую во. ду. А с утра — пустыня душевная неистребимой безответной любви, оазисы мирных встреч с Морицем. Покрывшись по шею — потому что ещё ночи свежи, она видела, как погасают огоньки в небе… Звезда сорвалась и потухла! Где она будет через год? В будущее глядеть так же страшно — как в небо нельзя доглядеть — отворачиваешься. А почему он все же стал ласковее? Потому что близок — конец? Расставание? А может быть, будет день, она себя спросит: "А где же был остальной мир, когда ты была с Морицем?" ("Какая я буду тогда? — перебивает она себя в каком‑то сердечном ужасе. — Ведь он ни за что не бросит работу, когда кончится срок, он сросся с ней! Он так и умрет здесь, каверна… Господи, я опять о нем думаю! Не надо! Опять не усну!") Отчего разный свет звёзд?.. Мориц мало–помалу становился для нее — призрачным. Она иногда глядела на него, сидящего от нее на расстоянии метров двух–трех, — и было почти физическое ощущение огромных пространств между (как под действием опиума, это казалось де–Куинси в книге, переведенной Бодлером). В состоянии, где шли прозрачные волны, останавливаясь о то же прозрачное стекло, было место и юмору: вся "Симфония" чувств. — вроде "Неоконченной симфонии" Шуберта — была ему не нужна — совершенно: будущее — когда он увлечется женщиной — объятье, простое и жаркое, было ему куда нужнее этих, готовых на жертвенность, чувств, хоть, может быть, та будущая ничего для него не захочет сделать, ни думать о нем, ни понять, а только себе из него потащит все, что удастся схватить, из последних сил человека…
Как длинна ночь, как коротки — сны! Она думала о том — его "балагане": снимая, как пену, как шелуху, весь крикливый клоунский вздор его спора, мишуру, нищету (меняющуюся — богатством атласно–алмазного колпака с недостойными человека "помпонами"), — обнаруживалось высокое и трагическое одиночество циркового работника, строгое искусство сохранения равновесия на канате высоко над ареной, где не один принял смерть. Ежемгновенная отданность, отказ от себя — и от самого дорогого, любимого всем нутром — гнёзда, смерть на посту, если это посту надо, непринаддежанье себе.
Как она могла не понять этого? За деревьями не увидела леса! Изучала — и не изучила, хмуря брови и щуря глаза от режущей зрение балаганной раскраски! Не поняла, что человек…
У Морица давно тихо, как хорошо, что он спит!
Большая Медведица совсем боком встала — а Полярная звезда — вон там! Как звезды крупно дрожат! Им тоже холодно… "
А когда она наконец засыпала — в её сон легко, как через низкий порог, входил Мориц, по9ти каждый день. Ей было вольней с ним, чем в яви, они обычно куда‑то шли, и она говорила ему о его здоровий, своим языком, но смелее: "Не спорьте, вы таете, я же вижу. Когда вы год назад тут шли (она хотела сказать "месяц" — но во сне получилось год), вы были не так худы.
И он во сне был всегда к ней мягче и проникновеннее. Было ли то самовоспитание или самозащита — но она никогда не видела его во сне интимнее, чем наяву. Сон — может быть, именно потому, что мог себе все позволить, — церемонно, во всю мощь сна, спокойно — не позволял себе ничего. И во сне он никогда не подозревал её ни в чем, как, кто знал, может быть, подозревал — наяву. Эти сны, вдруг сошедшие к ней на ночи её бессонниц, спускались с каких‑то блаженных островов, как воспоминания детства. Так — за день — она жила в двух мирах: в мире своей душевной слитости с Морицем — ив мире — жизненной, реальной необходимости.
Поэма валилась из рук, повесть — тоже. А дочка Леонида Утесова пела (из репродуктора) надтреснутым голосом упоительные свои песни, и Нике казалось, что это в ней, в её душе, собственной, музыка, её нелепая, неоправдываемая, неистребимая любовь к нему…
— Мориц, — говорила она в пустоту, — со мною о вас — то, что с вами — о музыке — когда поет дочка Утесова. Любовь сильнее Разума, она его заколдовывает, — как Лорелея тех рыбаков. Что же, значит — слаб Разум? Нет — сильна Любовь. Мориц, вы никогда не будете ни мужем моим, ни ребенком, а я вас чувствую — тем и другим. Сейчас, на всегда возможном краю, что нас всех перебросят, разбросают куда‑то, сломав эту хрупкую, но единственно мне с вами возможную совместную жизнь, я, как баба крепостного, вою у ног барыни, которая её разлучает с милым. (И эта "барыня" — лагерь.) В последние дни я не могу быть во вражде с вами! Может быть — близок конец? (Если бы я не была крепка в моих внутренних — в чем я выросла — убеждениях, это могло бы привести к самоубийству.) В час прощанья оно станет ещё сильней — как это смешно и как страшно. (Мне — страшно, а вам — смешно?) У меня сейчас все время как 39 градусов. Будет ещё и сорок, и сорок два. Сознанье не потеряю, не бойтесь. Все apparences[38] — вам так смертельно важные — будут соблюдены!
…И жизнь потекла, как текла. Ника глядит на подпись Морица. Свою фамилию, короткую и стремительную, — у него не хватало терпенья дописывать. Он писал начальную букву — и некое подобие следующих. Были варианты от почти до конца написанных — до бытия всего одной лишь начальной в размахе лишь перечеркнутой летящей чертой. Можно без конца глядеть на его подписи, до того они передают человека! В них все его жестокое и все его застенчивое обаяние. До чего может любовь истончиться. От вида его подписи начинается сердцебиение.
— Здравствуйте, Мориц! — говорит Ника, входя со двора в тамбур.
— Здрасте, здрасте, — отвечает он, как всегда, по утрам, грубовато. — Эй вы, милорд! — кричит он Виктору. — Вы извольте‑ка в полном порядке сдавать казённую готовальню! А вы, миледи, — он вешает полотенце, — подберите номера калькуляций, они у вас — разбросаны. А вы в сводке опять наврали (Толстяку) — так же нельзя, надо же, в конце концов, отвечать за свою работу! Когда починят арифмометр? Действительно! А как люди вообще считают без арифмометра?
Толстяк и его приятель сидят за срочной работой. Ника и Виктор взялись им помочь. Мориц вышел, сказал, что — ненадолго — в Управление. Щелкают арифмометры, соревнуясь треском. Распахивается дверь. На пороге — Мориц. На нем нет лица.