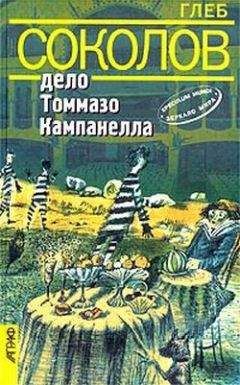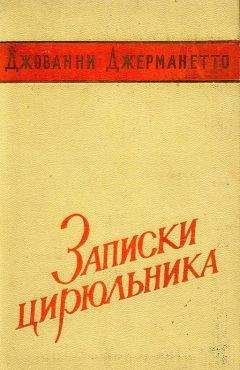До чего же хитрая штука этот завод. Какая-нибудь сотня квадратных метров, и здесь умудряются выжимать пот из сотен и тысяч людей. А ведь эти люди давно бы должны научиться летать.
«Какабуццара». Так крестьяне Лечче называют вещество для защиты фруктовых деревьев от воров. Обычно это деревья с ценными плодами: черешня, абрикосы, сливы, мушмула и т. д. Вещество же получают из одного растения — не знаю, как оно называется. Это кустарник с мохнатыми листьями и плодами овальной формы, напоминающими небольшое яйцо или сливу. Сначала они зеленого цвета, потом, созревая, желтеют. Если их тронуть, они лопаются, как воздушные шарики, и плюются семечками с соком. Не знаю уж, как крестьяне обрабатывают плоды этой «какабуццарой» — может, наносят кисточкой, а может, впрыскивают шприцем. Верно одно: стоит проглотить обработанный ею плод, так без конца бегаешь до ветру, пока кишки не вылезут.
В жизни все стараются заморочить нам голову. Молодец, если кто сумеет вывести их на чистую воду. Этих хитрых лисиц, которые не прочь половить рыбку в мутной воде. То, что для нас тайна за семью печатями, для них открытая книга.
Ясный октябрьский день. Иду в отдел кадров за очередной справкой. Солидная часть нашей жизни уходит на проклятые бумаги. Для нас эти ничтожные листочки с фиолетовыми печатями — только потеря времени и нервов, а для крючкотворов им цены нет, этим бумажкам.
Здание отдела кадров сплошь из алюминия, с большими окнами, вокруг — заросли роз, олеандров, целые живые изгороди из агав и других мощнолистых растений. Есть даже одно оливковое дерево, хорошее, ухоженное.
Дерево усыпано оливками, их больше, чем листьев, они, кажется, того и гляди, обломают ветки.
Много спелых оливок попадало на землю. Идущие мимо беспечно давят их ногами. Давят и давят — так скоро по земле масло потечет.
Сегодня меня снова вызвал начальник. Он сидит за письменным столом на возвышении. Это прекрасный наблюдательный пункт, отсюда видно все и всех. Он опять заводит свою песню. Ди Чаула, мне надо с тобой поговорить, отчего ты такой озлобленный, может, у тебя в семье неладно? Семья — вещь важная, в семью надо верить. Может, тебе не хватает духовного наставника, почему ты не обратишься к своему приходскому священнику? Я вижу, ты места себе не находишь, все время раздражен, вступаешь в пререкания, какого рожна тебе надо? Ты думаешь, мало людей умирает от голода? Я отвечаю, что с удовольствием обратился бы к Че Геваре, жаль, его убили. Черт побери, его убили люди, которые рассуждают так же, как ты. Тогда начальник входит в раж: хватит языком молоть, Ди Чаула, из всего цеха ты один не даешь выработки, твой табель — это же кошмар, сплошные потери времени, а ведь другие на том же станке давали 40 процентов прибыли. А теперь, говорю, за этим станком стою я: сколько могу, столько и вырабатываю.
Возвращаюсь на рабочее место почти в приподнятом настроении: я высказал начальнику то, чего он заслуживает, но все же удовольствие небольшое: ведь он тоже заставил меня поволноваться. Голова трещит, я вновь обдумываю сказанное и не сказанное в пылу перепалки. Я возбужден и снова озлобился. Что ни день — то отрава, хуже всего, что и домой приносишь в душе отраву. Подумать только — впереди еще двадцать пять лет такой вот отвратной жизни, двадцать пять лет придется жить по горло в дерьме — с ума сойти!
Да, у нас действительно общество потребления. Знаю, что не скажу этим ничего нового. В моем поселке, в доме, где я живу, с балконов, особенно по воскресеньям, клубами валит дым — это жарят мясо на вертеле, сосиски, рыбу. Когда мы можем себе позволить, то едим столько, что давно должны бы стать великанами, силачами, сверхчеловеками, а нас одолевают апатия и болезни. С чего бы это? Я думаю, мы мало пищи даем мозгу. Мы большие эгоисты, мы безразличны ко всему происходящему. Но в конце концов, не сами же мы отказались от политики, от культуры, от истории: это нас оттолкнули, оттеснили, и кое-кто пользуется нашей темнотой, чтобы вершить свои грязные делишки, диктовать свою власть и законы. Политические деятели не желают с нами якшаться, они далеки от нас. На выборах они широко улыбаются, гладят по головкам малышей, дружески хлопают нас по плечу. Но стоит собрать голоса, как они прячутся в кусты, становятся недосягаемыми, обходят нас стороной, словно боятся чего-то или хотят что-то скрыть. А потому они начинают сыпать цифрами и говорить на тарабарском языке.
Довольно много рабочих с нашего завода учится. Те из них, кто получили дипломы много лет назад, ходят уже в белых халатах. Они очень гордятся своими халатами, а мы, рабочие, гордимся ими, своими товарищами. Но последней группе выпускников дирекция заявила: сейчас кризис, и вам придется по-прежнему носить голубую спецовку. Теперь им вроде бы уже и все равно, они не думают больше о несбывшейся карьере, а крутятся возле станков и убеждают себя, что диплом ничего бы им не дал, не даст, да и вообще людям диплом ни к чему.
А дома их жены, невесты, матери растравляют незажившую рану: спрашивают, как дела, перевели ли их наконец в служащие. В ответ они только глядят злобно, устало вздыхают и валятся на кровать.
От уборных исходит зловоние, но здесь хотя бы есть двери — расхлябанные, без задвижек, но все-таки двери. В Калабрии и таких не было…
А в мастерских «Ласорса» уборная была просто темной дырой, и приходилось быть осмотрительным, чтобы не свалиться вниз — ищи тебя потом среди всякой дряни!
Когда я был моложе, то на работу из Модуньо в Бари ездил на велосипеде. Пути километров десять. Ехать было приятно, особенно в хорошую погоду: помню прозрачные рассветы, сверкающие от изморози поля, трулли, стога соломы, пение утренних птиц, всходившее в конце дороги багрово-красное солнце. А когда возвращался, во всем теле была разлита боль, казалось, дороге нет конца, все вызывало отвращение, от усталости слипались глаза, и мы уже ничего не видели, не могли любоваться ни полями в лучах заходящего солнца, ни восходом луны, похожей на тонкий голубоватый ломоть.
Кто знает, сколько прекрасных вещей мог бы я сделать за один день, но вместо этого я стоял у станка и обтачивал болты: тысяча, две тысячи, десять тысяч болтов. Мне было бы приятней, вооружившись пращой, отправиться на ловлю ящериц или же подкатиться к одной из тех женщин, что, расставив ноги, сидят у заброшенного сеновала.
Однажды в воскресенье я и в самом деле пошел. Уже издалека, едва увидев меня, она начала зазывно размахивать руками из зарослей цветущего миндаля. Мы устроились на каком-то ящике. На ней была одна блузка, а дул холодный ветер и бледное солнце совсем не согревало. Я еле-еле потом набрал тысячу лир.
В поисках своей первой работы я вынужден был уехать из дома. Жил я тогда в Малье, в провинции Лечче, а нанялся на небольшой завод на окраине Бари. Оставил все: семью, друзей, девушку, места, где прошло детство. Оставил все — за три тысячи лир. Столько я зарабатывал в неделю: три тысячи лир. Мне было чуть больше пятнадцати.
Меня приютили мои старики в сельском домике. Дядя не был еще женат, он спал около хлева, в маленькой каморке из туфа, где дышать было нечем, такая она маленькая и вся завалена фруктами — сливами, грушами, айвой, сладкими рожками… В первый рабочий день старики дали мне булку и часы, здоровую штуковину весом в полкило. Это были первые часы в моей жизни; как я их потом возненавидел!
Я уже стоял на пороге, и ко мне подошла бабушка. Она озабоченно отряхивала крошки с передника и приговаривала: «Прошу тебя, будь послушным на работе, будь умником, уважай начальника, постарайся, чтобы тебя полюбили». Я сказал «ладно», уже поворачивая за угол, в конце тропинки, — на этом углу цвел куст диких роз. Она любила меня, потому и говорила мне так: «Прошу тебя, сынок! Постарайся, чтобы тебя полюбили!»
Она не понимала, что мне горько это слышать. Она хотела, чтобы я стал овцой — овцой в мире овец, овцой наподобие других овец.
На сварку смотреть больно. Попробуйте задержать взгляд на слепящих искрах, которые вырываются из стержней (электродов), в глазах померкнет.
Когда я в первый раз взялся за сварку, у меня не было еще нужных навыков, и мне пришлось смотреть на сноп огненных искр. А ночью был ад. Началась резь в глазах, как будто их пронизывали тысячи игл, я ворочался в кровати и не мог заснуть. Говорили, что есть чудодейственное средство — картошка. Картофелину надо нарезать ломтиками и положить на глаза. Это якобы снимает жжение. Так и прошла у нас в доме вся ночь: я проклинал завод, сварочный аппарат и проклятый сноп искр, а мать резала ломтиками картошку. Этот случай я вспоминаю как какой-то кошмар.
До чего тоскливо работать вечером, во вторую смену — с пятнадцати до двадцати трех. К обеденному перерыву совсем обалдеваешь. Мы идем по аллее, освещенной неоновыми лампами. Это какая-то призрачная, жуткая дорога. Хотя по бокам ее свежая зелень газонов, оливковые деревья, агавы, ели, но все это кажется сделанным из пластмассы. Мысленно мы в поселке, там шумно, светятся огоньки, там, должно быть, сейчас развлекаются наши друзья… Развлекаются? Черта с два! Они там дуреют, это ближе к истине, поселок все равно что пустыня: бар, охотничий кружок, бильярд, игральные автоматы — все для того, чтобы еще больше обалдеть, словно и без того мы недостаточно обалдели. Но именно такими мы и нужны хозяину.