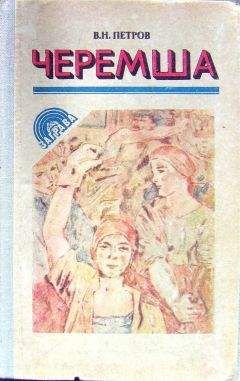— Да, поди, ещё рано, — недовольно просипел Спиридон. — Магазин-то однаково в восемь открывают.
— Вот до открытия и предупреди. А то я мимо проезжал, видел — уже столпотворение происходит.
Когда дверь захлопнулась, Ефросинья скоренько подвинула табурет поближе к столу, доверительно спросила:
— У тебя ливорверт-от имеется?
Вахрамеев слегка опешил, затем похлопал по заднему карману брюк. Усмехнулся.
— А как же. Браунинг — всегда при себе.
— Ну слава богу! Я-то, дурёха, напужалась. Думала: ну, порешат тебя, прибьют старые стервы у моленной. Они ведь с вечера каменья припасли, игуменья всех подговорила.
До председателя только теперь дошло. Он сразу вспомнил то сумеречное волглое утро, злые старушечьи лица в обрамлении чёрных платков, припомнил, как почудилось ему, будто в сарае бренчала седельная сбруя, будто звякнули стремена…
— Так это ты заседлала Гнедка?
— Я. Опосля вывела через задние ворота и у забора стреножила.
— Молодец, ну, молодец, девка! — Вахрамеев порывисто вскочил, с размаху тиснул ей руку. — Спасибо, выручила! Да тебя за это прямо расцеловать надо.
— Чего уж там — целуй, — она с готовностью поднялась, прижмурилась, в ожидании подставила губы. Целуя, Вахрамеев сразу ощутил давно забытый трепетный жар — Ефросинья явно прильнула к нему, обмякла как-то, задышала горячо и часто.
— Ну-ну, — сказал он, расцепляя её руки на своём затылке. Усаживая на табуретку, мысленно усмехнулся: "Ну и монашки пошли, едрит твои салазки! Такая не упустит, слопает, как пить дать". — Давай садись и рассказывай, какое у тебя дело?
Она степенно оправила платок ("а платок не монашеский — с цветочками! Знать, давно припасла", — отметил про себя Вахрамеев), вздохнула трудно, с затаённой внутренней решимостью.
— Да вот пришла к тебе… Ты же звал.
— Звал, это точно. У нас народу на стройке не хватает. Прямо острая проблема. Вон видишь плакат — "Кадры решают всё". Так что правильно ты бросила монастырь и двинулась к нам. Работу найдём.
— Чо это ты заладил: мы да мы? — с тихим укором произнесла она. — Я к тебе пришла.
— Как… ко мне? — Вахрамеев изумлённо подался вперёд, опершись о стол растопыренными пальцами. — Ты что такое мелешь, Ефросинья?
— Полюбила я тебя, Николай Фомич… Вот как перед святым крестом, — она перекрестилась, стыдливо опустила глаза. — Сон я вещий видела на троицу, намедни как нам с девками тонуть. Будто я упала в яму кромешную, ни зги не видать. И чую: пропадаю совсем, отходит душа моя грешная. А оно глядь — парень руку мне протягивает. Бровастый да белозубый такой, в фуражечке блином. Ну как есть ты вылитый… Как ты к нам приехал, я тебя, значит, сразу и признала. А в ту же ночь явилась ко мне пресвятая Параскева-пятница, благодетельница моя, и перстом указует: се твоя судьба, Ефросинья! Так и сказала: ".твоя судьба". Ты уж не серчай, Коленька, что я пришла к тебе… Куды ж мне деваться?
Ефросинья всхлипнула, уголочком платка, по-бабьи смахнула слезу. Подпёрла щеку, пригорюнилась, глядя в окно.
Вахрамеева бросило в жар. Такого горячего, лихорадочного смятения, замешанного на острой тревоге, давненько не испытывал он, пожалуй, с полузабытых армейских стрельб пли показательной рубки лозы… Торопливо крадучись, морщась от скрипа собственных сапог, прошёл к двери, проверил: не подслушивает ли дотошный Спиридон? Зажёг папиросу, жадно затянулся.
— Ты соображаешь, что говоришь, Ефросинья?! Ведь я женатый, понимаешь?
— Да уж я и то думала… — скорбно вздохнула она. — Гадала про себя: а коли он женатый? Невезучая я, несчастливая… Как есть, сиротинка горемычная…
Она уставилась на него ясными и печальными своими глазами, глядела долго, пристально, любуясь и жался, как разглядывают дорогого покойника. Вахрамеев почувствовал неловкость под этим немигающим взглядом, заёрзал на табуретке, недовольно тряхнул чубом. Хоть бы уходила скорее, что ли…
— А развестись с жёнкой нельзя? Ведь теперича, говорят, развестись просто: взял да вычеркнул бумагу, или вовсе порвал.
— Ну ты даёшь стране угля! — напряжённо рассмеялся Вахрамеев. — С чего это я буду разводиться? У меня дочка растёт — пятый годок. Да и жена хорошая, по крайней мере, не жалуюсь. Учительствует в школе.
— А как же сон-то, Коля? Ведь вещий сон…
Вахрамеев подумал, что Фроська ему очень даже нравится, иначе он давно бы прогнал её вместе с глупыми вопросами. Он испытывал к ней симпатию, сочувствие, жалость, искренне переживал за неё. Да и не мог он иначе относиться к человеку, откровенно распахнувшему душу, глядящему тебе в лицо исповедально чистыми глазами.
— А сон свой толкуй правильно, соответственно обстановке, — доброжелательно сказал он, поглядывая в окно. — у тебя сейчас что получается? Крутой поворот в жизни, ты выходишь в люди. На самую быстрину выходишь, понимаешь? Я тебе во всём буду помогать. Как у вас говорят, буду тебе ангелом-хранителем. Устраивает?
Она тоже смотрела в окно, задумавшись. Пошептала о чём-то, несмело улыбнулась:
— А может, домработницей возьмёшь, Николай Фомич? Я ведь по хозяйству всё умею: и стирать, и варить. Тут сказывают, ваши начальники берут в дома работящих баб. Вот и ты возьми меня.
— Брось дурить, Ефросинья! — всерьёз рассердился Вахрамеев. — Ни в какие домработницы ты не пойдёшь — ни ко мне, ни к кому-либо другому. Говорю это тебе с полной ответственностью. А пойдёшь на государственную работу — молодёжь должна строить социализм. Понятно?
— Это я и без тебя знаю. Слыхала, — вяло отмахнулась она и опять надолго задумалась. Потом неожиданно быстро спросила: — А какую работу дадите?
— Работы у нас всякой навалом. Только выбирай. Ты вообще-то как, грамотная?
— Псалтырь немного читаю.
— Значит, пойдёшь в ликбез. Потом в вечернюю школу. Ну а пока тебе, как малограмотной, можно предложить работу на нашей молочнотоварной ферме.
— Скотницей, что ли? Не пойду, — резко сказала Ефросинья. — Мне и так монастырские коровы опостылели.
— Ну, уборщицей в рабочее общежитие.
— Тоже не пойду. Нашто оно мне, чужие плевки-то подтирать? Это пусть наши старухи-черницы делают. А ты мне дай настоящую работу, чтоб человеком быть. Чтоб эти самые машины водить.
— Видали её! — недовольно развёл руками Вахрамеев. — Да ты, оказывается, настырная, Ефросинья! Что ж тебя на экскаватор прикажешь посадить? Или, может быть, на мотовоз?
— Научите, так и сяду, — Ефросинья подняла с полу торбу, завязала лямки крепким узлом. — Затем и шла, чтобы научиться.
— Ладно, направим тебя в бетонщицы — это как раз по тебе. Сейчас позвоню в отдел кадров, договорюсь, — Вахрамеев покрутил ручку телефона, его соединили с начальником-кадровиком, и он быстро обо всём договорился: бетонщики были одной из самых дефицитных специальностей на стройке. А подучить обещали — наука не из мудрёных. — Можешь идти оформляться.
На телефон Ефросинья глядела с подозрением и опаской — уж больно вычурной и таинственной показалась ей блестящая коробка: не врёт ли? Однако расспрашивать, уточнять постеснялась, да и гордость не позволяла. Перед уходом всё-таки спросила:
— А с тобой через неё тоже можно говорить?
— Вполне! — улыбнулся Вахрамеев. — Ты как оформишься на работу и в общежитие определишься, позвони сюда от дежурного. Попроси у коммутатора сельсовет.
Ефросинья кивнула, медленно, молча, как в первый раз, оглядела стены и вышла, вскинув голову, словно бы тяжёлая коса оттягивала ей затылок.
Председатель распахнул раму, боком уселся ка подоконник — уже тёплый, нагретый утренним солнцем. Ефросинья пересекла двор и направилась вдоль улицы, помахивая монастырской торбой небрежно, по-девичьи грациозно, как каким-нибудь модным ридикюлем. Серое, домотканное платье неброско, но удивительно чётко обрисовывало лёгкую и сильную фигуру. Вахрамеев дымил папироской, щурился, долго глядел вслед. Очень ему хотелось, чтобы она обернулась. Но так и не дождался.
Шальным половодьем захлестнуло тайгу алтайское лето. Росными: утрами вставали над падями голубые завесы, солнце гнало с откосов к Шульбе охлопья туманов, сушило чёрные ощерья россыпей, зажигало косогоры алыми всполохами: "марьина-коренья". Тайга гудела, наливалась духмяным теплом, сладкими сокамн жизни.
Поскотина за конным двором вся вызвездена желтомохнатыми одуванчиками, вся — в пчелином гудении, в брызгах росы. То тут, то там вспыхивают радужные шарики: перед тем, как сесть на цветок, пчёлы жужжат — сушат венчики.
И на эту-то благодать выводили одров, конченых сапных коняг, которым впереди одна дорога — под расстрел. На завалинке конторы расположилась выбраковочная комиссия во главе с ветфельдшером Иваном Грипасем. Стола не было — очкастый Грипась держал на коленях портфель и на нём, в ведомости, делал соответствующие пометки.