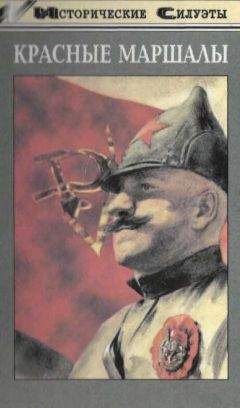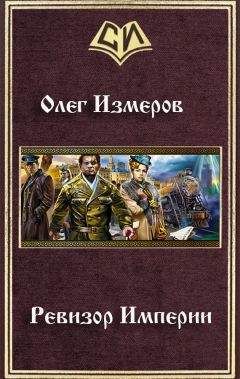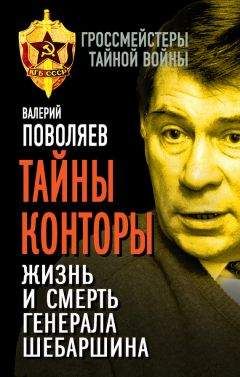Нет в живых...
Люди, по сути выкравшие Ольгу из Екатеринбурга, убили ее, хотя неписаный закон всякой вражды, всякой войны гласил: женщин и детей не трогать, они здесь ни при чем.
Теперь Ольга находится там, по ту сторону привычного мира с его бедами и болью, а он — здесь.
Ольга Сергеевна, неслышно проскользив по глубокому мягкому снегу, по самой его поверхности, ни разу не провалилась, остановилась рядом с мужем — рукой дотянуться можно, — глянула призывно в глаза.
— Я скоро... Я скоро приду к тебе, — произнес он тихо.
По лицу Ольги пробежала сожалеющая тень, брови сомкнулись в хмуром движении, и она исчезла.
Вечером двадцать первого января 1920 года Каппель подписал приказ о назначении генерал-лейтенанта Войцеховского главнокомандующим вооруженными силами колчаковского правительства.
Сам Колчак в это время уже находился в Иркутске, в тюрьме, его беззастенчиво сдали союзники — люди, у которых, как он ошибочно считал, хотя бы по долгу службы должна иметься честь, — именно поэтому им верил, чем и погубил себя.
Морозы продолжали клещами стискивать землю. А колонна каппелевцев, поредевшая, теряющая людей, все двигалась на восток. Иногда она приближалась к железной дороге, но к путям не выходила — каппелевцев словно пасли чехословацкие бронепоезда.
При первой же возможности в небо взмывал аэроплан-разведчик, облетал колонну, и через двадцать минут сведения уже находились на бронепоездах.
Путь каппелевцев был отмечен трупами. Люди оставались лежать на обочинах огромного снежного тракта, пробитого в сугробах колонной, — непогребенные, не отпетые батюшкой, непрощенные, погибшие за Россию.
Тогда все погибали за Россию, ибо выше цели, чем Россия, в ту пору не было.
В ночь с двадцать пятого на двадцать шестое января Каппель бредил. Остановились в небольшой, утонувшей в бездонных снегах деревушке, примыкавшей к железнодорожному разъезду.
На разъезде ночевали сразу три эшелона, румынские. Румыны держались особняком, в молотилку не вмешивались — им и без того тошно было, это первое, а второе — они хотели, никого не трогая, побыстрее покинуть Россию. Желание их было вполне понятно.
Каппель чувствовал себя все хуже и хуже.
Доктор Никонов перестал появляться у него — слег сам. Хотя он и не верил в то, что может заразиться тифом, а не уберегся — как ни обрабатывал себе руки раствором карболки, как ни натягивал на лицо марлевую повязку, — сыпняк достал и его.
С Каппелем в одной избе — черной, пропахшей дымом, по самую трубу заваленной снегом, — ночевал и Вырыпаев.
Он сидел на стуле рядом с постелью, на которой лежал генерал, и устало клевал носом — то опускал тяжелую, словно налитую свинцом, голову, то, напрягаясь так, что в ушах начинало звенеть, поднимал ее, впрочем, через несколько мгновений его голова снова бессильно падала на грудь.
Ближе к утру Каппель, находящийся в горячечной одури, вдруг начал говорить очень связно, четко, звенящим молодым голосом — именно такой голос был у Каппеля, когда они жили в Самаре:
— Главное — держите прикрытыми фланги, ни в коем разе не давайте во время движения открывать фланги. Арьергард должен быть хорошо защищен пулеметами. Тогда ни один наш боец не погибнет.
Вырыпаев, высоко вздернув голову — тяжести как небывало, — смотрел на генерала. Потом вытащил из кармана лист бумаги, записал эти слова. За печкой трещали два сверчка, соревновались друг с другом в горластости, в звонкости. Беззастенчивый назойливый звук их, гвоздями втыкающийся в уши, вызывал ощущение тревоги, тоски, холода. В избе почему-то стойко пахло плесенью.
Каппель, словно почувствовав, что на него смотрит Вырыпаев и ловит каждое слово, умолк.
Прошло полчаса. За печкой продолжали пронзительно трещать сверчки.
Неожиданно Каппель открыл глаза — чистые, осмысленные, печальные.
— Это конец, — прошептал он, — я умираю. Конец...
— Сейчас... Я сейчас, Владимир Оскарович, — заметался Вырыпаев, рывком стащил с вешалки свою шубу, натянул на плечи. — Я сейчас приведу врача.
На разъезде, на путях, продолжали стоять румынские эшелоны; чехословаки, пропуская своих, придерживали всех остальных, в том числе и своих союзников румын — в эшелонах этих обязательно должен быть врач, хотя бы один на три состава.
Вырыпаев вывалился в ночь, в холод; ветер швырнул полковнику в лицо горсть снега, запечатал ему рот, хлестнул по глазам, заткнул ноздри. Вырыпаев развернулся к ветру спиной, согнулся по-старчески и так, спиной, сделал несколько шагов.
— Это что же такое делается? — пробормотал он хрипло, отер рукою слезы с глаз. — Где же Божья милость?
В следующее мгновение он вновь развернулся и, пригнувшись к земле, прикрываясь от холода и колючего ветра локтями, двинулся к эшелонам. Сделалось немного легче дышать. Исстеганные глаза ломило, виски сдавливало что-то тугое, вызывающее страх и невольную дрожь.
Румынские эшелоны были едва видны в снегу и морозе. Паровозы охраняли сразу по нескольку часовых — румыны боялись, как бы чехословаки не увели их «тягловую силу»: от этих людей можно было ожидать чего угодно.
Показав настороженным часовым, что у него ничего нет в руках, никакого оружия, Вырыпаев приблизился к ним.
— Братцы... Братцы... — простонал он. — Мне нужен врач. Понимаете — врач!
Порыв ветра знакомо хлестнул ему в лицо, вновь заставил заслезиться глаза. Вырыпаев разжевал снег, попавший ему в рот, отер слезы с глаз.
— Врач, понимаете? Не понимаете? Ну как же так! — Полковник похлопал себя ладонями по бокам. — Как же мне объяснить вам, что нужен врач? Румынского-то я не знаю совершенно.
Через две минуты выяснилось, что румынского языка и не надо было знать.
Проведя несколько лет в России — сначала в лагерях, потом на фронте, общаясь с местным людом, румыны хорошо изучили не язык, а мат: им показалось, что в России жить без мата совершенно нельзя. И когда Вырыпаев с тоскою выматерился, мат дошел до них.
Старший из часовых — капрал, как понял по нашивкам Вырыпаев, — тощий, черный, заморенный, похожий на грача, совершившего долгий перелет, похрумкал валенками по снегу.
— Врач вон в том эшелоне, — сказал капрал по-румынски, повесил винтовку, которую держал на изготовку, за спину, ткнул рукавицей в самый дальний состав, стоявший на ветке, примыкавшей к лесу. — Там врач. Вагон его находится в середине поезда. — И добавил несколько слов матом.
Полковник все понял, бегом кинулся к дальнему составу, поднялся в темный теплый вагон и, не видя ничего, начал ощупывать руками пространство. Влажный спертый воздух вагона вызвал у него приступ кашля. Вырыпаев задохнулся, с трудом выколотил кашель из себя и просипел едва слышно:
— Есть тут кто-нибудь?
В ответ открылась дверь одного из купе, и в проеме показался человек, слабо освещенный огнем коптилки, спросил что-то по-румынски.
— Мне врач нужен, врач, — просипел Вырыпаев, голос у него был по-прежнему сдавленным — немощное птичье клекотанье.
Человек, выглянувший из купе на оклик, и оказался врачом. История сохранила только его фамилию и первый инициал, фамилия, кстати, вполне русская, — Донец — К. Донец.
— Тяжело болен генерал Каппель... Умоляю — помогите! — Вырыпаев прижал руки к груди.
Румынский врач знал Каппеля — точнее, знаком с ним не был, но много слышал о генерале. Лицо врача обрело почтительное выражение, он быстро собрал инструменты, сунул их в баул и нырнул вслед за полковником в ночь.
Через двадцать минут Донец уже сидел около Каппеля, тыкал трубкой то в одно место, то в другое, то в третье, оттягивал пальцами кожу на груди, смотрел, остаются красные пятна после щипка или нет, — пятна не оставались, щупал пульс, потом слушал грудь больного ухом и недовольно шевелил губами.
Закончив осмотр, Донец сложил инструменты в баул. Лицо его было скорбным. Он молчал.
Не в силах больше выносить молчание, Вырыпаев в молящем движении прижал руки к груди:
— Ну что?
Доктор вновь недовольно пожевал губами и произнес тихим, каким-то чужим голосом — в отличие от капрала и его солдат, он довольно сносно говорил по-русски:
— Через несколько часов господин генерал умрет.
— Что-о?
Врач, подтверждая сказанное, качнул головой. Вырыпаеву показалось, что пол у него под ногами поехал в сторону, он схлебнул с губ соленую жижу, внезапно натекшую в рот, вновь воскликнул неверяще и одновременно жалобно:
— Что-о?
— К сожалению, одного легкого у господина генерала уже нет совсем, от другого осталась только третья часть. Через несколько часов он умрет.
Вот к чему привел тихий назойливый кашель, на который никто не обращал внимания, поскольку кашляли все — все были простужены, — не только ноги надо было спасать, но и легкие, однако теперь говорить об этом было поздно.
— Наши эшелоны утром отойдут, — сказал Донец. — Предлагаю перенести господина генерала к нам в поезд, в наш лазарет. Чем сумею помочь больному, обязательно помогу, — Донец заторопился, давясь русскими словами, кашлем — совсем как у Каппеля, тихим, внутренним, — но... — Он споткнулся на полуслове, замолчал и красноречиво развел руки в стороны.