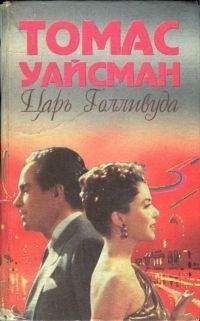— По какому поводу вы хотели меня видеть? — спросил Кейб, зашнуровав ботинки. Его беспокойные руки все время рвали бумагу, а когда она превращалась в клочки, он бросал их через плечо на пол.
— Я хочу получить вашу поддержку, — сказал Александр, — чтобы истратить больше денег.
Кейб резко приподнялся.
— Вы хотите истратить больше денег?!
— Да.
— Киношники и так истратили слишком много.
— Ну, это с какой стороны посмотреть, м-р Кейб.
— Вы представляете себе, м-р Сондорф, что я должен знать, сколько вы там потратили, в вашей Калифорнии?
— Я думаю, что приступы экономии в большой степени исходят от вас.
— Вы так думаете?
— Да, я думаю, что некоторые вещи, на которых до сих пор настаивают, не очень благоразумны. Например, введенное правило, что выражения вежливости надо выбросить из телеграмм.
— Киношники слишком многословны, — провозгласил Кейб. — Нужно уметь вести дела, а не обволакивать каждую вещь в ласковые слова.
— Ласковые слова необходимы, м-р Кейб. Когда вы хотите послать жесткую телеграмму режиссеру на место съемки и в ней говорится, что вам не нравится тот способ, которым он делает некоторые сцены, вы должны это высказать словами с любовью и поцелуями, сказать, что вы верите в него, иначе вы рискуете потерять его навсегда. Истратив пять центов за слово, с реверансами и уверениями в уважении телеграмма приобретает ласковую интонацию, а когда такие слова выбрасываешь, то интонация становится угрожающей. "К сожалению, не можем дать вам больше десяти тысяч" — это звучит неприятно и, может быть, даже оскорбительно, но, если вы добавляете "люблю Германа и детишек", вы уберете жало из этой телеграммы.
— Ну, вы можете вернуть свои "любовь и поцелуи", м-р Сондорф. Что-нибудь еще?
— Да. У меня есть сценарий, и я хочу истратить на фильм полтора миллиона.
— Ну и прыжок! От пяти центов за слово до полутора миллионов долларов!
— Я думал, что этот разговор о телеграммах облегчит вам переход к следующей теме.
— А я не думаю, чтобы хоть какая-нибудь кинокартина могла бы окупить такую кучу денег.
— "Рождение нации" и еще совсем немного других картин.
— Огромное количество фильмов прогорело, и деньги потеряны.
— Знаю, но даже если мы потеряли деньги на таких картинах, то, делая экстра-фильм, с самыми лучшими актерами, какие есть во всем мире и которых мы сможем приобрести, мы расширим наш потенциальный рынок для других картин. Это увеличит количество зрителей. Каждая великая картина, м-р Кейб, даже если вы на ней и потеряли и если она воистину хорошая картина, заставляет людей, которые ходили на нее, посмотреть и другие наши фильмы.
— Я всегда верил, что придет какой-нибудь паренек и расширит рынок, — сказал Кейб.
— Я знаю, только я не согласен ждать. У меня нет времени ждать, когда придет кто-то другой и расширит рынок.
— Но вы молодой человек, очень юный, вам, наверное лет двадцать. Почему вы так торопитесь, м-р Сондорф? Даже я так не тороплюсь.
— Вы знали, что у вас много времени впереди, а я в этом не уверен.
Кейб встал, прошелся по комнате, расшвыривая ногой рваные бумажки, дошел до стеклянной двери, раздвинул ее и вышел в застекленный сад на галерее, по всему периметру окружавшей его квартиру. Это было время, когда Генри Кейб совершал ежедневную прогулку, трижды обходя по галерее свою квартиру, вдыхая ароматы заботливо выращенных растений и цветов; и это было так удивительно — сад на двадцать четвертом этаже над тротуарами Манхэттена. Здесь никто не мог за ним наблюдать, а сверху можно было увидеть только крыши немногих зданий. Если погода бывала хорошей, Кейб надевал пальто, и над его головой открывалось несколько стеклянных квадратов, чтобы пустить точно отмеренное количество свежего воздуха или солнечного тепла и света. Но сегодня было слишком холодно.
У Александра было странное ощущение, — он шел по этому тщательно возделанному саду, нагретому до температуры жарко натопленного дома, а вокруг не было ничего, кроме неба и простора.
— Вы не возражаете против прогулки? — спросил Кейб.
— Вовсе нет.
— Хорошо.
Некоторое время Александр молча шел рядом с Кейбом. Старик, казалось, не обращал внимания ни на цветы, которые так заботливо выращивали для его удобства, ни на небо, казавшееся безбрежным, как океан, на который смотришь с высоты маяка, ни на почти тропическую жару, от которой у него на лице не выступило ни капли пота.
— Почему вы не обратились с этим предложением к м-ру Хесслену? — наконец спросил Кейб.
— Я знал, что бесполезно заручаться его согласием без вашей поддержки.
— Но я представляю меньшинство держателей акций.
— Вы можете использовать ваше влияние.
— Почему я должен это делать?
— Потому, что вы… любите использовать свое влияние.
Кейб издал тоненький смешок, прозвучавший так, будто кто-то барабанил по жестяному чайнику.
— Вы считаете, что я наслаждаюсь властью, не так ли?
— Если это не так, то я не понимаю, почему вы мешали приобрести нам некоторые романы в собственность?
Кейб снова хохотнул, оценив по достоинству слова Александра.
— Я вас кое о чем спрошу, — произнес доверительно Кейб. — У вас от такого аппетита не заболит живот?
Они продолжали гулять в полном молчании. Молчание Кейба воспринималось Александром, как хитрый прием. Кейб словно укутался толстым одеялом, чтобы нельзя было прочесть его мысли. Да и стены галереи, вероятно, были звуконепроницаемыми, потому что сюда не доносилось ни одного звука как из квартиры, так и из города, лежащего далеко внизу. Александр тоже не сказал ни одного слова, когда они завершили первый круг. Заговорил Кейб.
— Я рад, что у вас нет потребности беспрерывно болтать. Только неврастеники считают, что они все время должны говорить.
После второго круга Кейб спросил:
— Я обхожу сад три раза, вам это не надоело?
— Нет, если это не надоело вам.
— Надоело дерьмо вокруг, но в моем возрасте остается небольшой выбор развлечений. — Он зорко посмотрел на Александра: — Слишком жарко для вас?
— Жарко.
— Знаете, что говорят обо мне люди? Они говорят, что старик Кейб поддерживает в доме температуру пекла, чтобы акклиматизироваться к месту, куда он собирается отправиться.
За этим последовал еще один жестяной смешок.
— Вы такое не слышали?
— Нет, не слышал, — сказал Александр.
— Люди думают, что, когда они состарятся, они не слишком станут цепляться за жизнь. А я противлюсь смерти, как черт, м-р Сондорф!