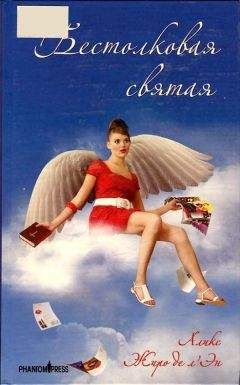– И не слыхали!
Даже Феодосья забыла про страх разоблачения, подняла голову и в предвкушении утвердила взор на рассказчике.
Эх, не случилось возле сего костра отца Логгина – он уже улегся, подоткнувшись толстым войлоком, на нощный сон, а то он красно набаял бы про римские акведуки!
– Бабы московские с ведрами к колодезям не бегают, чтоб натаскать в избу воды. И в баню для мытья или стирки с реки ушаты с водой не таскают. Вода сама собой притекает прямо внутрь хоромов.
– Это как, ручьи роют? Или с помощью чего?
– С помощью механики! В подробностях не расскажу, сам не видал, ведаю только, что ставят высокую башню и наполняют ее водой. А от башни во все стороны идут трубы, видно, навроде печных, и сии трубы оплетают весь град, в каждую хоромину тянутся, вода по сим трубам затекает в избу и там льется, как из самовара. Знай рублевики серебряные плати.
– Рублевики? Так за воду, чтоб в бане помыться, надо деньги отдавать? – загалдели слушатели. – Вот столица!
– А вы как думали? Вы лежать на лавках будете, а вода за бесплату по щучьему велению сама придет?
– За воду платить серебряным рублевиком? Али там в Москве умом повредились? Али у них баб нет воды натаскать? Так начто такая баба нужна? Али оне такие нежные, что коромысло из рук валится? – гомонил народ и тряс головами, мол, ходовые москвичи за все рады деньгу содрать.
Феодосья долго не решалась подать голос, но неодолимое любопытство взяло верх, и она спросила низким басом:
– А из чего те трубы сделаны?
– Доподлинно не знаю.
Феодосья представила город, сквозь который от башни, имевшей вид тотемской колокольни, толстыми червями во все стороны тянутся, извиваясь, трубы, в которых булькает вода.
– А избы-то не заливает? – снова басом вопросила она.
– Всяко бывает. Иной раз и потоп.
– Никчемная затея этот водопровод, – пришли к выводу слушатели. – С жиру в Москве бесятся.
И на том разошлись спать, оставив возле костра караульного стрельца. Впрочем, Олексей не собирался сидеть, уставясь в темноту. Как только обоз затих, он натесал кольев, уложил их на землю, чтоб снизу не шел мороз, на них настелил лапника от змей (хотя об эту пору змеи уж спят в своих подземных пещерах, спутавшись клубами, но осторожность не помешает) и улегся спиной к костру, в который была уложена толстая лесина.
Так, без особых приключений, полз обоз по дороге, словно гигантская деревянная змея, мерно стучащая сочленениями и чешуей по ухабам и боинам.
В Вологде присоединились еще с десяток груженых телег. И там же в граде, чуть не ставшем в 1565 годе столицей Руси со престолом царя Ивана Васильевича, стрелец Олексей окончательно преобразил Феодосью в монашеское обличие.
Сей плут завернул на торжище вовсе по другому делу и там неожиданно увидел лавку какого-то монастырского подворья. Два монаха торговали в ней изделиями своих мастерских. Были там картинки с рисунками городов и храмов, как русских, так и Византийских, Александрийских, были портреты святых с их житиями, иконки, ладанки, ларцы, елей и вода из самой реки Иордан. А также скромные одеяния для горожан, желающих иметь смиренный вид, или поизносившихся служек – темные шапочки, платки, длинные рубахи, рясы и прочая одежда. Олексей тут же смекнул и вдохновенно набаял про монаха в их обозе, потерявшего память, ибо огрели его в дороге разбойники остлопой по голове, ограбили, разули-роздели до исподнего и бросили на дороге в беспамятстве. И теперь едет сей монах в Москву в непристойном для духовного отца облике – в старой исподней бабьей юбке и пестрой рубахе.
Торговые монахи сперва переглянулись между собой – не для разбойных ли дел клянчит стрелец монашескую рясу, дабы переодеться и под сим видом проникать в монастыри или жилища?
– И какого же размера нужна тебе ряса? – вопросили умные монахи, ожидая, что стрелец ответит: «Как на меня», – чем и выдаст свои воровские намерения. Но Олексей показал руками фигуру весьма малого росту и зело тощую в плечах. Так что монахи несколько успокоились и, вздыхая и тайно сожалея о визите просителя, со скорбным видом, но тем не менее, с подобающими словесами отдали стрельцу слежавшуюся на сгибах рясу и шапочку. Впрочем, возможно, что не последним аргументом в согласии на дар был огнеметный пищаль, заткнутый за пояс просителя.
Олексей поклонился, произнес раза три: «Не оставь вас Бог», – и, помчавшись, нагнал хвост обоза, который все еще тянулся по Вологде.
Феодосья переоделась и окончательно успокоилась на свой счет. В басню Олексея возничие поверили, сомнений ее юный и нежный облик ни у кого не вызывал, а стало быть, нечего и волноваться.
– За рясу последние куны отдал. Так что будешь должна! – веселым тоном соврал Олексий.
И подмигнул с довольно гнилым взглядом (именно так говорили в Тотьме о мужских взглядах «с намеком»).
– Почему все, что создано творением Божиим, так соразмерно? – с чувством промолвила Феодосья.
Наслаждение соразмерностью, или, как выразился бы отец Логгин, гармонией, пришло к ней в момент весьма прозаический – Феодосья отбежала в лес, когда все пошли на обеденном привале по своим нуждам.
– Чего это Феодосий в уединение норовит скрыться? – с беззлобными усмешками вопросили холопьевцы. – Прямо рак-отшельник.
– Монахам не позволено подол задирать при других мужах, показывая елду, – выручал Олексей. – Коли кто увидит монашеский уд – сие будет зело вящий грех для обоих. Но для монаха особенно. Тогда наложат на него наказанье – елду валять да к стенке ставить.
И откуда Олексей все знал?!
– Это как же – валять?
– А вот сего не ведаю, ибо монахом не был, – отбояривался Олексей.
А се… Присев, Феодосья увидела под высокой кочкой, должно быть это был обросший мохом пень, грибы. Старые и переросшие, готовые вот-вот истлеть и рассыпаться, оне, тем не менее, являли каждый собой чудную вещь. Сыроежка лоснилась, как сафьяновый сапог. А боровик, наоборот, бысть нежно матовым, словно новая замша. Так и хотелось коснуться его перстом.
«Не могу понять, как вырастают оне со столь правильно сферической шапкой? – разглядывая грибы, дивилась Феодосья. – Что заставляет их из корешка расти равномерно во все стороны, а не как попало, безобразным кривым наростом? Рос бы один гриб, как гриб, другой – как редька, третий – как огурец, четвертый – вкривь до необъятных размеров, по земле стеляся. Так нет, все из половины шара, либо мисочкой изогнуты, либо яйцом на ножке стоят, и все необъяснимо искусны и совершенны. Почему в природе Божьей все кажется искусным и радует взгляд? А человек где влезет своею рукою или ногою, так смотреть противно. Намусорит, нагадит, разворотит, разломает и так бросит. Отчего в избе солома и листы на полу кажутся сором, а в лесу шуршишь сухими листьями, так душа наслаждается? Может, потому, что каждому творению Божиему нужно быть в своей им созданной оправе? В своем ларце? Выброси рыбу на берег – задохнется. Занеси цветы в избу – увянут. Пчела без улья или муравей без муравейника умрет. И только человек везде как дома. Где он только не поселился. В реку его брось – поплывет сам или лодку сделает. В пустыне оставь – скит срубит да и сядет книгу сочинять. В горах обживается, во льдах, в шахтах подземных, в Африкии даже. Что как человеку дана сила жить везде в сущем мире, а не только в своем муравейнике или улье? Может, кто-то живет сейчас в море-окияне в доме подводном с трубой наверх для дыхания воздухом? Тогда и на небесах живой человек может поселиться? Что как кто-то в далекой стороне уже придумал такую птицу и поднимается на облака? Или на огромной пуле летит из огнеметной пушки на верхние небесные сферы? И меня мог бы взять свидеться на небесах с сыночком Агеюшкой, хоть одним глазком на него взглянуть?»