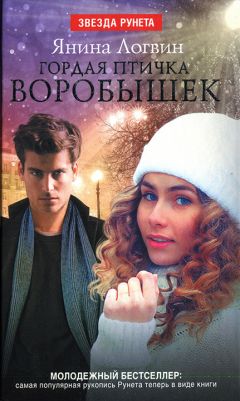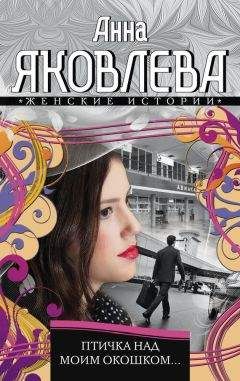— Ты не можешь этого знать наверняка, Воробышек.
— Могу, Илья. Ты просто не замечаешь. Все, кто хоть раз касался тебя, был близок к тебе, теперь в тебе нуждаются. Это как неизбежность. От этого не убежать, как бы ни хотелось иного. Твой брат, твой отец, девушки… — я медлю со словами, — Ирина. Ты ведь знаешь, что если захочешь, сможешь легко вернуть ее, а Яков уступит?
— Воробышек…
— Тшш… — я прикладываю палец к губам и закрываю глаза. — Я все еще жду, а ты все еще не исполнил желание, хотя обещал. И потом, я еще не задала тебе самый главный вопрос вечера.
— Какой же? — он послушно ложится рядом, очень близко от меня и все же не касаясь. Замирает, закинув руку за голову, так и не укрывшись одеялом. Но это не страшно, я тяну одеяло за край и сама укрываю его. Вновь прячу ладонь под подушку.
— Скажи, Илья, почему Донг назвал меня рассветной? Это что-то из китайской философии? И чем ему не пришлись по вкусу наши печенья? Зачем он заставил меня съесть твое?
Парень вновь молчит, но это молчание куда светлее прежнего и не пугает меня. Я терпеливо жду его слов, так и не размыкая глаз:
— Ты задала четыре вопроса, любопытная птичка, я отвечу только на один.
— Поймал, — вздыхаю я. Тепло парня так близко, мне сразу становится спокойно и хорошо. И почти все равно, что он скажет, лишь бы говорил.
— Есть древняя китайская легенда, в которой рассказывается о молодом ткаче Люй Хане, что жил когда-то в ремесленном городе Линьдзы, столице царства Ци, в старенькой хозяйской фанзе. Люй Хань был беден, но очень честен и трудолюбив, старик хозяин не мог на него нарадоваться. Ткач ткал такие красивые ткани и ковры, что богачи съезжались в ткацкую лавку издалека, оставляя звонкие монеты и доброе слово, а красивые девушки сами искали внимания завидного жениха. Но Люй Хань не смотрел на них, он давно отдал сердце черноокой и круглолицей красавице Дан-дан, дочери своего хозяина.
Уже готовилась свадьба, молодые люди были счастливы, когда на их беду в лавку зашел богатый работорговец Чжоу Су и увидел Дан-дан. Он так поразился красоте девушки, что предложил Дан-дан за ее любовь несметные богатства, что хранили его сундуки, — атлас и шелк, золото и серебро, жемчуг и дорогие камни, и Дан-дан не устояла. В тот же день она сбежала с работорговцем на одном из его кораблей, оставив Люй Ханя с разбитым сердцем.
Перестал ткач ткать ткань, ничто больше не радовало его глаз, ничто не ублажало сердце. Не было больше в лавке звонких монет, и хозяин прогнал его.
— Сволочь, — шепчу я, а Люков продолжает:
— Пять лет скитался Люй Хань отшельником по земле, еще на пять связался с разбойниками, он стал жесток и беспощаден, его сердце зачерствело, но человек не может жить без счастья, и все эти годы он просил бога Юйди — верховного владыку, которому подчинялись небо, земля и подземный мир, — открыть ему тайну, за что тот наказал его.
И вот, когда наш бывший ткач уже отчаялся получить ответ, однажды южный ветер принес ему на языке женское имя «Веики», что значит «Сохраняющая любовь», и Люй Хань заплакал. Упал на колени и зашелся плачем, потому что вспомнил.
«Рассветная девчонка», так он называл свою Веики, когда целовал сотни раз, пробираясь к порогу ее фанзы ранним-ранним утром. «Только ты, Рассветная», — так обращался, когда обещал вернуться, уезжая в большой город. А потом забыл. Красота Дан-дан, звон ярких монет застили ткачу образ девушки, которой он дал первую клятву любви, а после так легко нарушил.
— И что же? — от возмущения я даже отрываю щеку от подушки и заглядываю в лицо Ильи. — Бедная Веики после стольких лет ожидания приняла назад такого вероломного гада?
— Нет, Воробышек, — хмыкает Люков, неожиданно щелкнув меня по носу пальцем. — Она долго и преданно ждала Люй Ханя, лила слезы и, в лучших традициях мыльных опер, смотрела на дорогу, меняя носовые платки. Давала от ворот поворот всем женихам, пока своей верностью не сразила сердце самого красавца Юйху — сына бога Юйди, гордого сторожа небесных светил, впервые за многие тысячи лет решившего снизойти к земной женщине, — так поразила его сила ее чувств. Ради Веики Юйху принял образ Люй Ханя и подарил девушке вечную жизнь. С тех пор они вместе затерялись где-то в кромке горизонта.
— А что же Дан-дан?
— Ничего. Шторм забрал их вместе с работорговцем в первую же брачную ночь. Со всем золотом и прочим скарбом.
— Надо же… — разочарованно тяну я, возвращая щеку на подушку. — И все же, Илья, я не совсем поняла, что хотел сказать Донг.
Люков поворачивает ко мне лицо и задумчиво смотрит. Я не знаю, на чем сосредотачивается его взгляд, но почему-то облизываю губы.
— Любовь Веики — большая награда, ее надо заслужить. Когда-нибудь для кого-то ты станешь спасением и большой любовью, Воробышек, — вот что хотел сказать китаец. Если этот кто-то, конечно, заслужит твоей любви.
Едва он произносит эти слова, я тут же чувствую, как у меня обрывается вздох и замирает сердце. Отступившие было тени наползают со всех сторон, и в их сгустившейся пелене так легко угадать ненавистное лицо со стальным взглядом. И руки — крепкие, безжалостные, намертво прижавшие меня к груди…
— Нет, — дергаю я головой. — Я не хочу. Пожалуйста, Илья. Не хочу!
* * *
Я не пойму, что с ней происходит. Только я растолковываю слова Донга, как на лице птички отражается испуг.
Какого черта?!
— Все будет хорошо, воробышек. Никто не сможет заставить тебя любить себя против твоей воли, что бы ни сказал Донг.
— Правда? — ее глаза смотрят с такой надеждой, а лицо так близко, что мне требуется недюженная сила воли, чтобы не коснуться нежной щеки рукой и не запутаться пальцами в ее длинных, упавших на грудь волосах.
— Правда, птичка. Никто.
Она успокаивается, кладет голову на подушку, закрывает глаза и сворачивается возле меня клубком.
— Спасибо, — шепчет, тяжело выдыхая.
Через минуту она уже спит. Через две — утыкается лбом в мое плечо и прячет теплую ладонь в сгибе локтя, через три — будоражит притихшего было зверя мягким дыханием, заставляя с новой силой заскулить в оковах так и не утихшего желания.
Проклятье! Почему птичка не хочет любви? Есть ли у нее тот, кого она готова назвать любимым? И кто, к чертовой матери, упомянутый жених?! Как это все вяжется со страхом в ее глазах и болью в голосе?
Столько вопросов, а самый важный — один: не допустил ли ты, Люков, сегодня непоправимой ошибки?
— Дурак, — шепчу я в тишину комнаты, приставив кулак ко лбу, — похотливый идиот! — но сердце тут же отвечает смехом. Дает почувствовать кожей доверчиво прильнувшего ко мне воробышка.