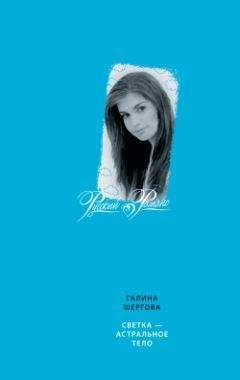– Помилуй бог, Алексей Алексеевич! Он не вникал и вникать не намерен. Он творец, ученый, он выше такой мелочевки, как деньги. Господин Соконин получил канал, посвятил его весь жизни зверюшек, сам ведёт большую программу. Что еще?
– Да, вероятно, – согласился я. Именно так, не ведая подробностей, должен был поступить Соконин. Хотя, черт его знает: может он и на Ирине женился в благодарность за подарок? Вполне может быть, вполне.
– Соконин знал, что он владелец канала?
– Понятия не имею. Иван в такие подробности не вникает. И Ирина его всякой ерундой не отягощает. Лишь бы был при ней. Она же на нем сдвинута.
– Это мне понятно. Не понятно иное: какая связь между звездной четой и гибелью Лили? Вы ничего не путаете?
– Путать мне не положено, – улыбнулся Самсонов, – должность не позволяет. – А связь прямая. Издательство «Фантом» заказывало вашей покойной супруге книгу о Бекетовой?
– Заказывало.
– Брала Елизавета Петровна интервью у всех, кто знал Ирину в прежние годы, кто был свидетелем ее первых успехов, ее восхождения?
– Да. Даже Швачкина на интервью раскачала.
– Именно. А Швачкин похвастался друзьям, что изложит всю правду. А правда-то поскудная. А до той поры никто не знал, что Швачкин в интересах собственной карьеры подкладывал певичку, а потом певицу Ирину Бекетову под кого попало. И та слушалась.
– Да, я понимаю, история отвратительная, хотя вполне банальная. Но, уверяю вас, Лиля никогда не написала бы об этом в книге.
– Вы так думаете. Не Ирина. Та только и терзалась: узнают все, узнает Соконин, главное – Соконин. И – конец ее жизни, ее счастью.
– И что же?.. – я еще не понимал, к чему клонит Самсонов.
– А то. Заказала Ирина и Швачкина, и вашу супругу. Правда, устранение Елизаветы Петровны в ее планы поначалу не входило. Произошла накладка: Швачкин успел дать интервью. Поэтому поступил срочный приказ: журналистку убить, пленку отобрать. Швачкину же укольчик сделать. Якобы сестра из поликлиники.
Я не мог выдавить из себя ни звука. Я не мог осознать сказанное Самсоновым. Я только поймал себя на том, что сотрясен пошлейшим оборотом событий. Дешевая детективщина все-таки настигла меня в своем ходульном воплощении: героиня погибает от руки самого распрекрасного персонажа. Является Пуаро сегодняшнего образца и раскладывает все по полочкам.
Самсонов корректно дал мне время для осознания удара. Сочтя молчаливый интервал достаточным, сказал:
– Так что ваше теперь решение: возбуждать дело против Бекетовой, не возбуждать… Впрочем, фактов для возбуждения у вас нет. Мы свою информацию никому не предоставили. Денис Андреевич зла Бекетовой не желает.
– Не желает, – тупо повторил я.
– И, конечно, как вы понимаете, идея документального кино о судьбах героев вашей повести, сама собой отпадает, – он выдержал паузу, – а без документалки Денис Андреевич считает, что вся затея теряет смысл… Тем более, что у него сейчас возникло интересное предложение из Штатов.
– Да, да, понимаю, – промямлил я, хотя ничего не понял.
Он с непринужденной грацией впорхнул в пальто, двинулся к дверям, там на миг задержался:
– Разумеется, деньги, причитающиеся вам за продажу прав на экранизацию, будут переведены. Денис Андреевич человек широкий, понимает: вашей вины нет.
Таким образом, денег мне хватало. И на жизнь, и на памятник Лиле, который теперь, полгода спустя после трагедии, я смог поставить. Простой: черная плита с ее именем. Даже без дат, замкнувших Лилину жизнь.
Однако сегодня памятник был нарядным: пятипалые ладони кленовых листьев запятнали мрамор. Тут-там, даже с определенной элегантностью. Мертвые эти листья, припав к искусственным цветам на могиле, тоже мертвым, вдруг оживили их.
Я не люблю искусственные цветы и, разумеется, не кладу их, даже убираю. Но они возникают, нагло пестрые вновь и вновь. Как на могиле Ковригина, как на могиле Швачкина.
Я понял: это промышленное цветение – плод Светкиных забот.
Только у ног разудалого соседа-армянина никогда не топорщилась пестрота искусственных соцветий. Там всегда лежали иногда свежие, иногда чуть привядшие живые цветы. С обломанными стеблями: чтоб не воровали. Это погребенье в Светкиных заботах не нуждалось.
Сколько же месяцев я не видел Светку? Со дня нашей последней встречи в салоне? Да так.
Но именно на кладбище Светка с ее былыми видениями подходила ко мне вплотную. Вплотную бесплотно.
Сегодня все было особенно зримо.
Обветшалое роскошество дореволюционных погребений соседствовало с бивачной неприбранностью новых, особенно военных и послевоенных, когда даже железная ограда стала проблемой. Точно кладбище было моделью перепутанной сложностями времен жизни. Дуб с ржавой листвой ронял на холмик твердые слезы желудей.
И точно: кладбище было тем же – где-то ронял слезы мраморный ангел, где-то с черной полированной плиты зорко смотрел боевой командир с тремя ромбами на фарфоровых фотографических петлицах, где-то бумажная роза прорастала сквозь завитки алюминиевого креста – но все надгробные плиты стали куполообразны и клетчаты. А один склеп, сложенный округло из желтых камней, смотрелся черепашьим панцирем.
А над всем этим, накрытое шалью Люськи-цыганки колыхалось население «коммуналки», охваченное, спаянное приливом вздорной, но нерасторжимой любви. Любви и сопереживания…
Мне стало грустно, беспомощно и бесконечно грустно. Ведь я понимал, что сегодня никто не укроет меня Люськиным платком. А, может, и никого не укроет.
Наверное, в сегодняшнем мире существует и любовь, и горе, и сострадание. Но они иные, они говорят на ином языке, мне недоступном.
Кутя зачислил меня в «пасынки времени». Он сам не знал о чем говорил. Я был «пасынком времен», смены тех времен, что – о, нравы! Когда из моды выходит положение людей, сюжеты, стиль.
Мода тоже накрывает, настигает, прихлопывает. Вот ведь и детективщина в самом сегодняшнем обличии накрыла меня. Не в этом дело. Поднатужься – приладишься к моде. Стаи имитаторов карабкаются на крепостные стены искусства. Безнадежно другое.
Я стал пасынком Времени. Времени, как формы бытия, с его виртуальными связями, иной системой измерений, иными методами постижений. В том числе и постижений человека.
Все это сегодня – на слуху. Вон и Званский лопотал какую-то самодельную чушь на заданную модой тему… И оказался почти прав. В чем-то. Хотя…. Иное тут, иное… Любовь, ненависть, вражда, сострадание не могут быть изъяты из человеческого существования. Они вечные и иные. Как же прочесть их сущность во всех временных метаморфозах? Теперь я понял.
Только масштаб постижения дает масштаб воссозданию, масштаб его методам.