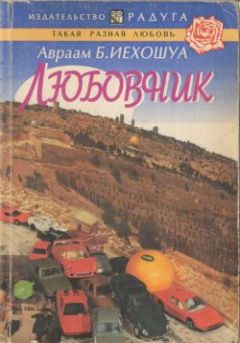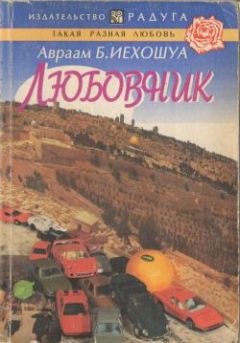Хамид посмотрел на привязанную машину, проверил узлы тросов.
— Кто привязал ее так?
— Я.
Он ничего не говорит, только приводит в действие кран и опускает машину на землю, освобождает тросы, заново закрепляет узлы.
— Что тут не так? — обиделся я на него. — Чем нехорошо?
— Так не будет держать…
Он работает молча, один. Тощий, смуглый, ищет другие точки опоры. Я стою и смотрю на него, как Адам смотрел на меня. Упрямый араб.
Он кончает работу, мы залезаем в тягач и едем на север.
— Что слышно в деревне? — спрашиваю я.
— Ничего нового…
— Как папа?
— Нормально.
— Скажи ему, что я, наверно, вернусь в деревню.
— Что будешь делать там?
— Ничего…
Он не смотрит на меня, ведет машину спокойно так, легко, бесшумно переключает скорости, можно подумать, что едет машина автоматически. Нет такого механика, как он.
— Папа сердится, что я не приношу денег?..
— Не знаю…
Пока вытянешь из него слово… Иногда я замечаю, что он смотрит на меня как-то подозрительно, словно недоволен.
— Что случилось?
Он молчит, потом вдруг:
— Почему ты не пострижешься?
— Теперь все так ходят.
— Какие такие все? Только евреи…
— Арабы тоже…
— Может быть, ненормальные…
— Ну уж…
Он не отвечает. Мы въезжаем в Хайфу, я прошу остановиться у дома старухи.
— Ты еще живешь у нее?
— Да.
Он криво улыбается, высаживает меня на углу и едет дальше, в гараж.
Я поднимаюсь по лестнице, звоню, потому что ключа она не дает мне, но никто не отвечает. Уснула? Не может быть. Она всегда ждет меня. Я стучу со всей силы. Нет ответа. Меня охватывает страшное беспокойство, я начинаю бить по двери ногами. Тишина. Выходит соседка и смотрит на меня, я хочу спросить у нее, но она тотчас же закрывает свою дверь. Я начинаю беспокоиться всерьез. Спускаюсь вниз, вижу, что окна открыты. Снова поднимаюсь, стучу в дверь, опять спускаюсь вниз.
Иду по людной улице, прохожу мимо киосков, захожу на рынок, брожу среди людей, усталый и злой. Может быть, старуха и на самом деле умерла. Смотрю снизу, не появится ли она в окне. Мне нужно попасть внутрь, в мою комнату, лечь в кровать отдохнуть. Я перехожу на ту сторону улицы, захожу в дом напротив, поднимаюсь по лестнице и из лестничного окна заглядываю в квартиру старухи. Окна раскрыты настежь, занавески раздуваются от ветра. Вот моя комната, кровать не застелена, стоит, как я оставил ее ночью, и я вижу, что она сидит в кресле в гостиной… и издали кажется мне, что она улыбается про себя, а может, у меня уже галлюцинации от усталости.
Я совсем не в себе, быстро перехожу улицу, взбегаю по лестнице, стучу, зову ее, кричу: «Это я, Наим, откройте!» Но дверь не открывается.
И снова я на улице, мечусь в разные стороны. И вдруг решаю подняться по трубе, как в ту ночь, в самом начале. Я смотрю на людей вокруг, но никому нет до меня дела. Я цепляюсь за камни, за выступы, за канализационную трубу, точно как тогда, все время оглядываюсь вниз, смотрю, не кричат ли на меня, не зовут ли на помощь, но люди равнодушны, никому нет дела до того, что я так вот посреди дня забираюсь в квартиру, и вот я уже держусь за подоконник, прыгаю внутрь и обнаруживаю ее в кресле. Она совсем белая, на лице и правда улыбка, такая застывшая, словно после сильного плача. «Умерла», — думаю я, и меня пробирает дрожь. Быстро беру простыню и накрываю ее, как, я видел, делают в кинофильмах. Иду на кухню, пью воду, чтобы силы вернулись ко мне, решаю взглянуть еще раз, приподнимаю простыню, дотрагиваюсь до ее руки, рука холодная. Но в глазах какое-то шевеление. Зрачки. Она слегка застонала. Я говорю ей что-то, но она не отвечает.
Снова она потеряла сознание, которое нашла в тот раз…
Я в отчаянии… забудешь тут, что тебе всего пятнадцать лет. Оставили ухаживать за умирающей столетней старухой. Что же это такое? Где справедливость? А сам поехал в Иерусалим. Надо развязаться со всем этим. Убегу отсюда. Я думаю об этом еще с ночи, только сказать некому. Кидаюсь в свою комнату, начинаю укладываться, закрываю чемодан с вещами, которые она дала мне. Иду на кухню, что-то варится там на керосинке, почти сгорело. Начинаю есть, очень вкусно, именно потому, что подгорело. Я скребу дно, съедаю все без остатка. Во рту горит. Прохожу мимо старухи, а она и правда смотрит на меня, следит за мной глазами. Я снова обращаюсь к ней, на этот раз по-арабски, она слегка качает головой, словно понимает, но ничего не говорит… потеряла речь.
Я звоню в гараж, спрашиваю Адама. Там ничего не знают. Звоню к нему домой. Нет ответа. Никто не подходит. Захожу в свою комнату, закрываю дверь. Меня охватывает страх. Уйти отсюда, но куда? Я ужасно устал, хоть поспать тут напоследок. Я закрываю ставни, не раздеваясь ложусь на кровать и сразу же засыпаю. Когда проснулся, была уже ночь, одиннадцать. Я проспал десять часов подряд.
Я вхожу в гостиную. Она сидит там в кресле в том же положении. Под дверь кто-то подсунул вечерний выпуск «Маарив». Я увольняюсь, я бегу. Есть такое стихотворение, когда-то мы учили его в школе. Я помню из него только первую строку: «Человек, беги, уходи». Даже имя поэта забыл.
Я звоню Адаму домой. К телефону подходит его жена. Он еще не вернулся из Иерусалима. Она тоже ждет его звонка. Я рассказываю ей о старухе, и она говорит: «Не оставляй ее, — (и она тоже приказывает), — когда Адам появится, мы немедленно приедем к тебе… Возможно, ее внук нашелся».
Я возвращаюсь к старухе, сажусь около нее, говорю с ней, беру «Маарив» и читаю ей о нападении террористов, может быть, это вернет ее к жизни.
Сумасшествие какое-то. Всю ночь я не сплю. Она дышит, жива, даже улыбается мне, понимает то, что я читаю ей, смотрит на меня, следит за мной глазами. Я иду на кухню и приношу немного хлеба, сую ей в рот, чтобы она не умерла от голода. Но хлеб застревает у нее во рту.
Еще задохнется, и скажут, что я задушил ее… Рассветает. Я должен скрыться отсюда. Все время я твержу, что увольняюсь, весь день пытаюсь сообщить об этом, но некому меня услышать.
«Дафи, дорогая, это ты? Еще не спишь? Разбуди папу, пожалуйста, будь добра. У меня к нему дело, моя машина вцепилась в дерево… ха, ха…» Утром во дворе школы я стою в окружении ребят из моего и из других классов и изображаю старого лиса, подражаю его сладкому голосу. И все радуются, услышав об аварии, но не потому, что будет свободный урок, он уже не преподает ничего, а просто потому, что его длительное отсутствие поспособствует свободе и будет полезно для беспорядка, характерного для конца учебного года.
Неудивительно, что все были ужасно ошеломлены, когда увидели, как на второй перемене он прибыл в школу на такси, правда перевязанный, с поцарапанным лицом и немного похрамывая, но бодрый духом, властный и решительный, вошел через главные ворота, важно шагает своей медленной, тяжелой походкой, ловит по дороге учеников, заставляет их поднимать брошенные на землю кожуру, бумагу, мел — расчищает себе путь. Уверен, что школа погибнет без него.