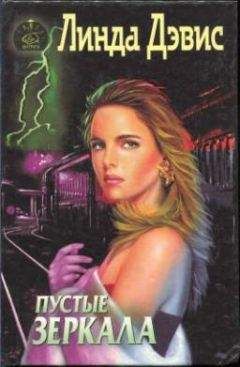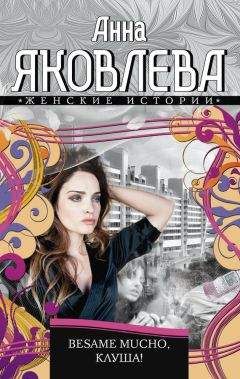Она так и уснула, чувствуя рядом Костино тихое дыхание – и не найдя ответа.
Мамино лекарство – первый звоночек, это Лера поняла сразу. Она кожей чувствовала, что жизнь скоро переменится совершенно; это не могло быть иначе. Интуиции ей всегда было не занимать – и Лера ждала перемен.
Да и как можно было их не предвидеть – после недавних августовских дней, которые так взбудоражили всю страну, и особенно Москву!
Лето этого года они с Костей, как обычно, проводили в Калуге – вернее, под Калугой, где у старших Веденеевых был в деревне домик. Вообще-то Лера любила деревенскую жизнь еще со времен Студенова, но заготовка запасов на зиму надоела ей до чертиков. Она просто не привыкла к тому, что это можно делать в таких масштабах – в Москве-то они с мамой питались из магазина, – и теперь просто изнывала от бесконечного консервирования, засолки и засушки.
Правда, свекровь не настаивала, чтобы этим занималась еще и Лерочка, но ведь самой неудобно сидеть с книжкой или гулять по окрестностям, когда вся семья собирает, варит, закручивает, да еще приговаривает: это деткам в Москву, на зиму!
В общем, Лера вздохнула с облегчением, когда, оставив Костю родителям в качестве заложника, смылась в середине августа в Москву, где очень кстати намечалась конференция по Данте в Библиотеке иностранной литературы.
Она вдруг почувствовала мало кем ценимую прелесть летнего пустого города: его пыли, сухой листвы, плавящегося асфальта и собственного легкого одиночества, – всего того, что пропускалось почти всеми москвичами, сбегавшими на это время за город.
Во дворе было пусто: большинство соседей тоже разъехались по дачам.
И когда девятнадцатого августа Лера выбежала на Неглинную и остановилась на мгновение – чувствуя, что оставаться дома невозможно, и раздумывая, куда же идти, – ей тоже никто не встретился во дворе.
Каждый час, каждая минута этих дней до сих пор, спустя почти три месяца, помнились ей так ясно, как будто все это было вчера. Эти танки на улицах, эти толпы людей, которые нарочно гуляли вечером, чтобы показать свое презрение к тем, кто хотел ими командовать.
И неожиданно хлынувший дождь, под которым она так промокла ночью у Белого дома, что едва не подхватила воспаление легких, и разговоры, и споры, и ощущение полного бесстрашия, которое ей было не в диковинку, но которое многие открыли в себе впервые.
Она даже о Косте забыла и вспомнила только когда все кончилось и он наконец застал ее дома звонком.
– Лерочка, да я чуть с ума не сошел! – услышала она взволнованный Костин голос в трубке. – Неужели ты была на улице, как же можно!
– А где же мне было быть? – пробормотала Лера: она едва не падала после бессонных ночей.
– Представляю, что было с мамой!
– Да ничего с ней не было, все нормально, – успокоила мужа Лера. – Я, Коть, наверное, уже не приеду. Ратманов звонил, он симпозиум готовит… Ты когда будешь?
Мама действительно ни разу не попросила, чтобы Лерочка осталась дома. Даже наоборот: когда все кончилось, когда Лера наконец выспалась и смогла членораздельно рассказать обо всем, что видела и в чем участвовала, Надежда Сергеевна сказала, к огромному Лериному удивлению:
– Как все-таки хорошо, что ты так вовремя приехала, правда? Я представить себе не могу, что было бы, если бы тебя там не было…
И то, что после всего этого время снова потянулось так безысходно, так уныло – с пустыми магазинами, ощущением собственной незначимости, – не могло, конечно, длиться долго.
Лера радовалась переменам, сопровождавшим ее студенческую юность. Да и как было не радоваться: все в ней звенело и трепетало, когда она читала то, что раньше невозможно было читать, говорила о том, о чем раньше люди боялись даже шептать. Господи, да все у нее было, как у всех – и митинги, и «Архипелаг», и пронзительное ощущение свободы…
Однажды она шла по Петровским линиям, потом свернула в Камергерский и вдруг поняла: а ведь вот в том доме горела на столе свеча, а потом стоял гроб доктора Живаго, и сюда приходила проститься с ним, мертвым, Лара!.. И она, Лера, живет в десяти минутах ходьбы от этого дома…
Что значили по сравнению с этим пустые прилавки, и очереди, и дефицит всего и вся! Хотя Лера ненавидела убогую жизнь, но потерпеть ради свободы…
И только теперь, впервые, она подумала: свобода – это хорошо, но лекарство-то все равно будет нужно, и никто его на блюдечке не принесет. Мысли эти были не то чтобы мучительны, но назойливы, и Лера каждый день ощущала их свербящую неотвратимость.
Она даже не догадывалась, что всего лишь через какие-нибудь полгода об этом придется задуматься очень многим людям – в ее дворе, в Москве и за ее пределами. И далеко не все поймут то, что поняла она: что никто не принесет на блюдечке…
А главное, за мыслями должно было следовать действие, так было у Леры всегда, и сейчас она раздумывала только – какое.
Как обычно и бывает, выход оказался там, где его и не думаешь искать.
Ранний утренний звонок разбудил Леру, но не заставил проснуться окончательно.
– Попросите гражданку Михальцову, – услышала она женский голос в телефонной трубке.
– Сейчас, – ответила Лера. – Узнаю, дома ли гражданка.
Она взяла с тумбочки бронзовый бюстик Пушкина и три раза коротко постучала по трубе парового отопления. Услышав ответный стук сверху, Лера сказала в трубку:
– Она подойдет ровно через минуту.
Волей-неволей пришлось просыпаться совсем, вылазить из-под теплого одеяла на холодный пол и шлепать к двери, чтобы открыть Зоське.
Зося Михальцова жила как раз над Лерой, но не в квартире, а, по сути, на чердаке, и телефон там был не положен. Но ведь человек не может жить посреди Москвы без телефона, это просто ненормально – и Зоське звонили по Лериному номеру.
Зося была на три года моложе Леры. Сейчас, когда и самой Лере уже исполнилось двадцать пять, казалось, что Зоська жила в их дворе всегда, но на самом деле это было не совсем так. Лера отлично помнила, как та появилась здесь – шестилетняя, маленькая, с мышиной светлой косичкой.
Зосина мама Любовь Петровна устроилась дворничихой, и ей тут же дали служебную жилплощадь – эту самую комнату на чердаке. Кажется, за Любой Михальцовой числилась даже не комната, а койко-место. Но чердачная квартира все равно пустовала, жил там только слесарь, тоже занимавший одну комнату, – и Люба устроилась попросторнее.
Ее две комнаты находились в самом конце необозримого обшарпанного коридора с холодными стенами, закрашенными облупившейся масляной краской. От входной двери и от туалета было еще идти-идти, чтобы попасть к Любе. Пришедшие сюда впервые вообще пугались: не верилось, что в этом мрачном, сыром жилище могут жить люди.