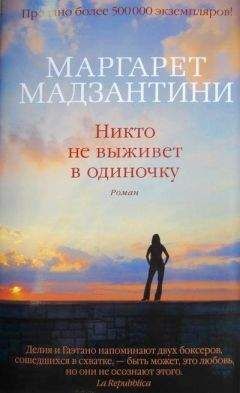Дуччо с ужасом смотрит на эту колымагу. Обнимает меня, зеркальные очки плотно сидят на усталом лице. Закусывает губу широкими, хищными зубами.
— …А ведь он был великим фотографом… великим.
Нажимает кнопку пульта, идет танцующей походкой к «ягуару», припаркованному у самого входа в церковь.
— Кто бы мог подумать, — говорит Виола, — гробы так разукрашивают… — Затягивается насквозь промокшей сигаретой. — Но, в сущности, мертвым-то на это наплевать.
Я выхватываю из ее рук сигарету, топчу ее:
— Хватит курить, с ума сошла!
Потемнело, небо серое, того и гляди пойдет дождь. Пьетро одет в белое, не спит, скинул пеленку. Лежит, уставившись на треугольник накидки с фигурными краями, свешивающийся с коляски. Огромные глаза, лысая голова, будто у какого-то насекомого. Папа спрашивает, что мы теперь будем делать.
Действительно, что делать? Это не свадьба, прохладительных напитков не подносят. Похороны и те необычные: без катафалка, без могилы. Диего не хотел. Всегда говорил, на ветер, на ветру он и будет.
— Отвези домой ребенка, папа.
Едем через весь город в крематорий. Въезжаем в ворота по пыльной дорожке. Хорошее место, легкое, напоминает теплицу. Гробы, ожидающие своей очереди, похожи на ящики с семенами. Пино забирает свой флаг, аккуратно складывает, не хочет, чтобы его тоже сожгли.
На небольшой площади, где мы остановились, чтобы зайти в бар, бьет фонтан. Струи устремляются вверх, вода не течет по земле, а поднимается в небо.
Мать Диего садится в машину. Ее спутник закрывает дверцу. Кусок платья торчит наружу, смотрю, как трепыхается ткань.
Я осталась с Пино. Доедаем бутерброды.
— Расскажи про его отца.
Он недовольно морщится. В этой гримасе заключена вся его неудавшаяся жизнь. В конце концов, Диего пробился.
— Последняя сволочь, дома вел себя по-скотски, распускал руки.
— Диего рассказывал о нем как о герое…
Пино мучит зависть, лицо со следами драк напрягается. Он подпрыгивает на стуле, улыбаясь, как Де Ниро в «Бешеном быке».
— Ну, Диего дает!.. Ты что, не знаешь, какой он был?
— Нет, не знаю. Расскажи мне, Пино.
— …Он же не хотел замечать ничего плохого, хотел видеть только хорошее.
Смотрю на фонтан. На воду, текущую вверх. Только хорошее…
Собранные сумки лежат на кровати
Собранные сумки лежат на кровати. Номер похож на поле мокрых полотенец. Пьетро надевает чистую майку, протирает очки «Ray-Ban».
— Что стырим, ма?
Я смотрю на него, не понимая, о чем он.
— Что ты должен стырить?
— Обязательно что-то нужно украсть в гостинице, а иначе это будет означать, что нам здесь не понравилось.
— Кто тебе сказал?
— Папа.
С этим не поспоришь, тем более что того, кого Пьетро зовет папой, месяц назад повысили в звании: произвели в полковники карабинеров.
Пьетро хватает кусок пластика, висящий на ручке двери:
— Заберу «DO NOT DISTURB»,[15] ладно?
— Так, значит, тебе понравилось?
Усмехается, пожимает плечами, засовывая вывеску в рюкзак.
Везем сумки по коридору, колеса тяжело катятся по буграм коврового покрытия.
— Мам, тебе жалко, что мы уезжаем?
— Да, немного…
— Мне тоже чуть-чуть.
Я смотрю на него, не в силах поверить, что ему жаль уезжать из этого бедного, серого города.
Может, он не хочет уезжать от Динки, официантки с пирсингом. Но они почти не смотрят друг на друга. Быстро обнимаются, не сгибаясь, как муравьи.
В машине, пока Гойко сдает назад, Пьетро говорит:
— Раньше я не знал, где родился, а теперь знаю.
— И как, ты доволен?
— Ну…
Он сидит, уставившись в окошко; мимо мелькают заново отстроенные здания рядом с вокзалом… и я понимаю, что значит его «ну». Все эти годы Пьетро рисовал в своем воображении место, где он появился на свет «случайно», как всегда говорил в школе преподавателям, друзьям. И должно быть, думал намного больше, чем я подозревала, о том, что же именно «случайно» произошло в этом городе. И наверное, все эти дни выискивал «случайность», почти ничем больше не интересуясь, бродя по улицам с опущенной головой…
Вчера ночью, когда мы уже легли, он спросил:
— Диего лучше меня играл на гитаре?
— Нет, ты лучше, ты же учился. Папа играл на слух.
Вертелся, переворачиваясь тысячу раз, мешал мне спать, хотя я уже засыпала.
— Можно узнать, что с тобой?
Вскинулся, как тигр:
— Мне не нравится, что ты называешь его папой.
— Но он же твой отец.
— Тогда почему он не вернулся вместе с нами в Рим?!
— Он работал…
— Нет, он нас бросил. — Потянул меня за руку. — Ведь так?
Я подождала, пока он не заснет. Может, он что-то услышал в стенах этого города, который с ним говорил, нашептал ему правду, умершую, но где-то запечатленную вместе с именами на мемориальных досках, что красуются на фасадах израненных и залеченных зданий.
Кладбище Ковачи прямо там, рядом со стадионом, у раздевалок, построенных из бетонных плит. Могилы взбираются по склону холма, по уступам, похожим на террасы, где обычно растут виноградники.
Мусульманские плиты стоят криво, все направлены в сторону Мекки и, кажется, накренились от ветра.
Гойко спросил, не остановиться ли нам.
С того самого момента, как мы приехали, хочу прийти сюда, но так и не нашла сил. Да и сейчас их нет у меня, но ведь уезжаем… Тронув Гойко за плечо, говорю: «Да, остановись, пожалуйста». Гойко включил поворотник и припарковался, как будто ничего особенного не происходит. Словно остановились кофе попить, с тем же выражением лица.
Он идет впереди, мокрая от пота рубашка прилипла к спине. Не смотрит на плиты, знает, куда идти.
Похож на винодела, показывающего свои виноградники.
Здесь похоронено пол-Сараева. Разнятся только даты рождения, даты смерти похожи. Судьба приготовила для них черный мешок смерти, собрав за три года необычайный урожай.
Умираешь всегда в одиночку, а у них отняли даже такое право, они мерли целыми гроздьями, роями, как мошки. Когда у тебя крадут жизнь — ладно, но когда смерть — совсем другое дело… легко ли умирать вповалку, вперемешку, как грязное белье, как гнилые фрукты.
Гойко переводит несколько надписей на плитах. Для Пьетро, который теперь не оставляет его в покое. А Гойко и не старается избегать расспросов, рассказывает самые жуткие анекдоты:
— Черные цифры для надгробных плит стали быстро заканчиваться: сначала двойка для «тысяча девятьсот девяносто второго», поэтому все ждали, когда же наступит девяносто третий год, а потом и тройка закончилась… — Смеется. — Самая настоящая трагедия.