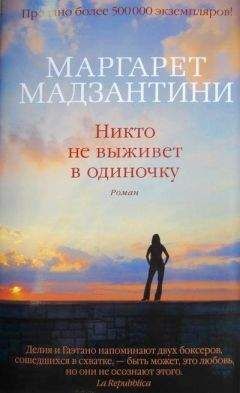Остановился. Стоит наклонившись, обрывает сорняк. Отсюда начинаются католические кресты. Я иду, но ноги не хотят двигаться. Он смотрит в мою сторону.
Война уже шла на спад, но в тот день кончилось все. Умерли игрушки йо-йо, джинсы «Levi’s 501», песни Брюса Спрингстина и стихи Гойко.
В тот день меня уже давно не было в Сараеве. Я узнала о том, что произошло, много лет спустя, случайно, в небольшом зале арт-кинотеатра. Я заметила, что на меня смотрит одна девушка в очках, на ней был вечерний жакетик из черного атласа с зеленым отливом, свободные джинсы. Она первая меня узнала, мы поцеловались, обнялись, и я пристальнее вгляделась в нее. Каждый раз, когда я встречаю кого-нибудь из них, мы обнимаемся, крепко, без слов. Потому что боль снова оставляет свой отпечаток, отливаясь в форму, которая уже ждет ее. Это была соседка по дому Мирны и Себины, тогда она была еще подростком. Поднималась по лестнице, опустив голову, ведя по стене слабой рукой, которая, как хвостик, тянулась сзади. Я крепко ее поцеловала, потому что она жива, хотя не была с ней близко знакома и никогда не вспоминала о ней, не интересовалась, что с ней стало. Она переводит романы с сербохорватского, после войны они вошли в моду, говорит. Живет более чем скромно, сразу видно, на ней застиранный выходной жакет; у нее был парень — итальянец, но они расстались, теперь она свободна. У нее маленькие белоснежные руки, лицо покорное и гордое, как ее город, и настолько слабый голос, что мне приходится напрягать слух. Мы сидели на красном диване; запах сырости от влажной уборки.
У нее высокий лоб, волосы как подшерсток, будто выбелены от слишком яркого света с потолка. Она уехала за границу в последний год войны, когда трамваи снова стали ходить, села в конец вагона и, ни разу не спрятавшись даже на открытых участках, проехала от Башчаршии до Илиджа. Тот трамвай показался ей красивым, красивыми были его неразбитые стекла. Она смотрела на руины своего города, будто сидя в зале кинотеатра, где улицы ползли как пленка в проекторе. И решила, что не останется. Не могла себе даже представить, как она будет жить здесь, шрамы казались ей хуже ран.
— А они не выжили, — сказала.
Свет падает на ее голову и как бы стирает цвет, превращая каштановые волосы в седые, старческие. Она смотрит на меня, помогая взглядом.
Мне не должно быть больно, потому что с тех пор прошло немало лет и открытая рана давно уже затянулась, оставив белый шрам. И все-таки боль и есть это пережитое время, которого я даже не заметила.
Подхожу к Гойко. Взгляд опущен вниз, на землю. Две одинаковые могилы рядом, общая плита немного больше обычной одинарной, как полуторная кровать.
Как та кровать, на которой спали мать и дочь, где мы впервые занимались любовью с Диего.
Мирна и Себина теперь спят здесь.
Я перекрестилась, рука прошла через лицо.
На плите высечена довольна длинная надпись, Гойко переводит ее Пьетро, спокойно, не меняя ни голоса, ни выражения лица:
Держи конец нитки,
Другой конец возьму я
И побегу по белу свету.
Если я потеряюсь,
Мамочка, потяни за нитку.
Пьетро спрашивает:
— Это ты сочинил?
Гойко неохотно кивает, стихотворение — часть баллады, которую он посвятил Себине на последний день ее рождения, тринадцатого февраля: лежал снег и падали бомбы, но они все вместе отмечали праздник, и на столе чего только не было!
— Самое плохое из того, что я написал, но им нравилось…
Пьетро вставил:
— Это вовсе не плохо.
Я всхлипываю, живот, плечи трясутся. Пьетро смотрит на меня. Мне хочется рухнуть на землю и помереть от слез. Но мне стыдно перед сыном, перед Гойко, который потерял все, но стоит не моргнув глазом, в нашем-то возрасте, когда любая мелочь вызывает слезы, — среднем возрасте, как его называют, но, по-моему, мы намного старше.
— Как это произошло?
Девушка рассказывала, не меняя тона, и я, вся превратившись в слух, приникла к слабой нити, которой, теперь я знаю, стал голос выживших, тех, кто продолжает жить, хотя связи и оборвались. Ее итальянский был певучим, монотонным, почти обезболивал. Вот как все случилось.
Сирены тревоги выли уже несколько минут, Себине надо было спускаться в подвал, ей не хотелось, но что поделаешь. Это давно превратилось в привычку, подвал обустроили: подсоединили автомобильный аккумулятор, который изредка удавалось зарядить, и тогда можно было слушать радио; есть кастрюля, в ней варят еду на всех, и ширма, отгораживающая ведро для нужды. Есть книги, одеяла и узкие раскладушки на ночь.
Мать просит ее поторопиться, Себина тянет время, крошит в аквариум черный брусок из гуманитарных пакетов — он считается мясом, но по запаху больше похож на корм для рыбок, и им нравится. Она хотела пересадить рыбок в стеклянную банку из-под черешни с сиропом, как делала иногда, чтобы взять их с собой в убежище, но Мирна нервничает: сегодня гранаты взрываются непрерывно, точно камнепад во время оползня.
Себина берет с собой только книжку по географии. Ей нравится Новая Зеландия, она сказала брату, что хочет туда съездить, и Гойко пообещал в ответ: это первое, что они сделают, когда все закончится, — полетят на самолете целые сутки. Она спускается вниз вместе с соседями, вместе с девушкой чуть постарше, которая идет по лестнице и ведет рукой по стене, тянет ее за собой, как хвостик.
Радио сегодня работает, сначала обращения, далекие голоса людей, надеющихся узнать о судьбе родных, прерывистые, похожие на птичий клекот, потом, в самом конце, — музыка какую бог пошлет.
Себина танцует, делает несколько маленьких прыжков с переворотом в воздухе. Женщина, которая варит суп, просит ее успокоиться. Себина садится, открывает учебник географии. Снова закрывает, пересказывает анекдот, который услышала от брата. Корчит рожи, упираясь кулачками в бока. Даже ворчливая тетка, помешивающая ложкой суп, и та смеется.
Мирна все еще не вернулась, она пошла наверх, на крышу, развесить белье, сегодня первый по-настоящему солнечный день после холодов, поэтому и гранатометы с гор подняли такую стрельбу.
На крыше более или менее безопасно, потому что их дом ниже других и расположен поодаль.
У Мирны светлые волосы, поэтому седые пряди не так заметны, на ней обтягивающая юбка, свитер с высоким горлом — одежда, которую она носила в юности и которая сейчас сидит на ней безупречно.
Я прямо вижу ее на этой крыше, здороваюсь с ней — это последние мгновения ее жизни, начало второго года осады. Именно на ту крышу с дымовыми трубами и телеантеннами мы несколько раз ходили вместе снимать белье, а после курили и разговаривали, глядя вниз. Я любила ее, и она меня тоже, по-своему, без особой близости. Чувствовала себя неловко рядом со мной, я всегда казалась ей слишком далекой. Для нее я была несостоявшейся женой ее сына и крестной ее дочери, по правде говоря, мы мало друг друга знали, а через несколько мгновений упадет ее граната, и для нас навсегда исчезнет возможность узнать друг друга лучше.