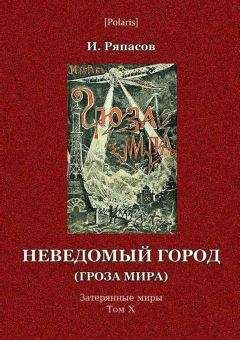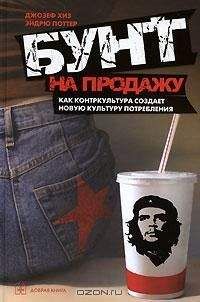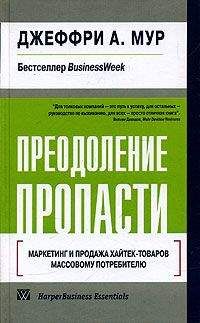– Ну как, тебе удобно или еще пониже опустить? У тебя, вообще, как, встанет? – Дина уже не могла узнать, кому принадлежит голос.
– Да я бы эту киску порол бесконечно, – другой голос, где-то дальше у ног и почему-то снизу.
– Ну, ты просто вечный двигатель. Просто перпетум мобиле. Когда Бен придет?
– Да ты давай, на Бена надейся, а сам не… – И в этот момент все затихло, отступило, рассыпалось в прах: не только голоса, а весь только что существовавший мир растворился в теплоте, в первом признаке подступающей вспышки.
Больше его не было, скучного, примитивного мира, – Дина снова жила предстоящей яркостью, ослеплением. И лишь на плоскости колышущегося пространства пронзительный взгляд Рассела, его тихий, проникающий голос поднимал новые упругие, сладкие, пронизывающие волны, предвещая неминуемый взрыв.
Потом она еще долго жила короткими, закругленными отрезками времени. Они не следовали один за другим, а шли порознь. Взрывы сменялись пустотой и успокоенностью, над их чередой витал взгляд Рассела, его улыбка, голос, потом надо было его звать, молить, чтобы он пришел, пощадил, принял в свое царство. Иногда он был жесток и немилосерден, иногда мучил ее, требовал жертв. Она клялась, она была готова на все ради него, ради того счастья, которое он ей доставлял, и наконец он смягчался и дарил новую вспышку и новое успокоение – сочетание блаженств, выше которых в жизни не было ничего. Не могло быть. Если только смерть.
Смерть приходила не раз, однажды пришла особенно отчетливо. Тогда снова пришлось открыть глаза. Прожектор был выключен, к темноте глаза привыкли быстрее, чем в прошлый раз к свету. Дина лежала не шевелясь: как ни странно, она не чувствовала ни тошноты, ни горечи во рту, ни ломки. Почему она выпала из той укутывающей, пеленающей жизни и перенеслась сюда, было необъяснимо, – видимо, что-то сломалось в ее изможденном, покалеченном теле.
Лежать можно было долго, всматриваясь в темноту, собирая обрывки мыслей – даже не мыслей, а физических ощущений, физических переживаний, их переплетений. Собственно, памяти не было, будто Дина первый раз попала сюда, в этот ненужный, неловкий, раздражающий желаниями мир. Стало неудобно руке, она затекла под тяжестью неуклюжего тела, захотелось его повернуть, – Дина сделала усилие, даже не надеясь на успех. Как ни странно, рука выползла наружу, она зудела и колола тысячами мелких иголочек, но двигалась, сгибалась в локте, разжимала пальцы.
Оказалось, что другая рука тоже двигается, что можно, опершись на них, приподнять тяжелое, каменное тело. Высоко приподнять не удалось, руки подломились, тело рухнуло вниз. Теперь надо было отдохнуть, отлежаться, глубоко дышать, восстанавливая дыхание, готовиться к новому подъему.
В следующий раз тело откликнулось послушнее, руки, локти выдержали его тяжесть, оставалось только сдвинуть ноги, но ноги не двигались, они были приподняты вверх и как бы надломлены в коленях. Пришлось тянуться к ним рукой, долго, мучительно, – не могли же они быть прикручены винтами. Выяснилось, что винтами они не прикручены, но пальцы нащупали на щиколотках веревку – нет, не веревку, кожаный ремешок с маленькой пряжкой сбоку.
Первая застежка кое-как расстегнулась, а вот пока руки бились над другой, закружилась голова, сбилось, потерялось дыхание. На секунду стало страшно, что дыхание не вернется никогда, что она сейчас задохнется. Тело упало на спасительную опору, с размаху больно ударилось о жесткую поверхность, вздрогнуло, затихло и стало отлеживаться, пытаясь умерить частоту перевозбужденного сердца.
Потом снова появилась уверенность, рука снова поползла к ноге, снова нащупала застежку, – та сопротивлялась, выскальзывала, упиралась, но все же поддалась. Опять отдых, неизвестно сколько времени: тело само знало, что делать, как управлять слабой, постоянно смещающейся головой.
Вот тогда и начали появляться, всплывать слова, которые она слышала, когда пробудилась в прошлый раз. Слова всплывали бессмысленно, несвязно, и прошло время, прежде чем они начали собираться в стопки, складываться, стыковаться один с другим, нащупали разумную цепочку. Сначала смутно забрезжило где-то вдалеке, будто было отделено толстой, густой, едва прозрачной клеенкой, а потом клеенку сразу прорвало, пробило одним острым рассекающим ударом. Первым появилось понятие мысли, а затем, сразу за ним, сама мысль: «Что же они делали со мной?!»
Вслед за мыслью возник страх. Но не тот, животный, бессильный ужас, который сжирал ее при падении в бездну, а сознательный, измеряемый чувствами и умом человеческий страх.
«Кто я? Что со мной произошло? Где я? Почему в этой странной комнате? Что за непонятные устройства вокруг меня?» И снова, опять и опять: «Что они со мной делали?»
Наконец удалось спустить с кровати ноги. Так она и сидела с висящими, не достающими до пола ногами, набиралась сил и только потом, опершись руками, соскользнула вниз.
Она чуть не упала – ватные ноги не держали, они подламывались, пришлось снова ухватиться за край кровати. Неуклюжая, полусогнутая, окостеневшая, она простояла несколько минут: ноги не слушались, она попыталась сдвинуть их, но они не сдвигались, – просто не понимали, чего от них хотят.
«Сколько я пролежала здесь, если ноги атрофировались?» – подумала Дина.
Она попыталась еще раз, потом еще, наконец правая нога сделала какое-то подобие шага, теперь надо было подтащить к ней левую. Не выпрямляясь, не отпуская опоры кровати, Дина сделала еще шаг, покачнулась, все же удержала равновесие. Еще один маленький шажок.
Так она протащила себя вдоль кровати, потом в обратную сторону, уже более уверенно. Потом оставила кровать, сделала шаг – ноги задрожали, подогнулись, но выдержали, не подломились.
«Что же они делали со мной? – снова подумала она. – И где я? Кто я?»
Она только знала, что ее зовут Дина. А еще помнила лицо и голос. И имя человека, которому они принадлежали, – Рассел. Он единственный, кто мог ее защитить.
Когда Дина подошла к двери, она уже почти умела ходить – шатко, нестойко, но она могла преодолевать расстояния. Во всяком случае, до двери. Дверь оказалась незапертой, почему-то Дина была уверена, что дверь будет не заперта: она легко поддалась нажиму, за ней сквозняком и прохладой пахнул в лицо коридор. Длинный и узкий, он уходил за угол, тянулся вдоль бессчетных дверей – Дина толкнула одну, та не сдвинулась – и обрывался у широкой деревянной лестницы. Лестница вела только вниз, значит, Дина находилась на самом верхнем этаже.
Сразу стало очень зябко: легкая, едва держащаяся на плечах ткань не защищала, сквозняк бил по ногам, залетал под рубашку, пронизывал тело. А еще захотелось есть. Это было даже не желание, а настоящий голод – резкий, требовательный, который невозможно унять, успокоить.