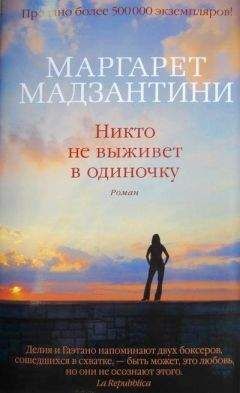Предыдущие владельцы установили прожектора в глубине двора, вероятно, в предвкушении пышных вечеринок. Мы не увлекались приемами на открытом воздухе и редко включали прожектора, но я знала, где выключатель: в кладовке слева от входа, рядом с раздвижными стеклянными дверями, выходящими на задний двор. Отсюда я обычно наблюдала, как ты играешь с Кевином в бейсбол, и тосковала, чувствуя себя исключенной. Похоже я чувствовала себя и сейчас — исключенной. Как будто ты устроил очень важную, очень сентиментальную, семейную вечеринку и не пригласил только меня. Я держала руку на том выключателе добрых тридцать секунд и только потом щелкнула им. Если бы мне пришлось сделать это снова, я выждала бы дольше. Я бы хорошо заплатила за каждый момент моей жизни без того зрелища.
Прожектора осветили стрельбище на гребне холма. Вскоре я пойму юмор дневного звонка Кевина в обсерваторию: он сказал Роберту, что не нужно забирать Селию из школы, поскольку она «нездорова». Селия стояла спиной к мишени по стойке «смирно», неподвижная и доверчивая, как будто собиралась играть в «Вильгельма Телля».
Я рванула дверь и помчалась вверх по склону, но моя спешка была нелогична. Селия подождет. Пять стрел проткнули ее и вонзились в мишень, не давая телу упасть, как булавки, удерживающие бумажки на классной доске объявлений. Спотыкаясь и выкрикивая ее имя, я приближалась к ней, а она нелепо подмигивала мне, откинув назад голову. Я ясно помнила, что утром вставляла ее глазной протез, но сейчас его не было.
Есть вещи, которые мы знаем всем своим существом, даже не концентрируясь на них, по крайней мере сознательно не формулируя лепет, вибрирующий на поверхности нашего разума. Так было и со мной. Я знала, что еще найду, не признаваясь себе в этом. Поэтому, когда, карабкаясь к стрельбищу, я споткнулась обо что-то, торчащее из кустов, может, меня и затошнило, но я не удивилась. Я мгновенно узнала препятствие. Слишком часто я покупала такие шоколадно-коричневые башмаки в «Банановой республике».
О, мой любимый. Как бы мне ни хотелось заблуждаться, но я должна была провести связующую нить между бессмысленным ужасом того открытия и всем лучшим, что было в мужчине, за которого я вышла
замуж.
До отъезда в школу оставалось добрых двадцать минут, и ты разрешил детям погулять. Ты даже обрадовался, что, в виде исключения, они резвились вместе — семейные узы. Ты пролистнул «Таймс». Четверговый выпуск, посвященный недвижимости, тебя не заинтересовал, и ты начал мыть посуду. Ты услышал крик. Я не сомневаюсь, что ты немедленно выбежал во двор. Ты бросился за Кевином. Ты был крепким даже в свои пятьдесят с хвостиком, еще прыгал через скакалку по сорок пять минут в день. Нелегко было остановить такого мужчину. И ты почти добежал... оставалось несколько ярдов до гребня под градом стрел.
Вот моя теория: я думаю, ты замешкался. Выбежав на дек, ты увидел нашу дочь, пригвожденную к мишени, со стрелой в груди, а наш первенец развернулся и нацелил подаренный на Рождество арбалет на отца-дарителя. Ты просто не поверил своим глазам. Ты верил в хорошую жизнь. Ты был хорошим отцом, проводил с ним выходные, устраивал пикники, рассказывал на ночь сказки и таким образом воспитывал порядочного, здорового сына. Ты жил в Америке. И ты все делал правильно. Следовательно, этого не могло быть.
Итак, на один смертельный момент эта высокомерная убежденность — то, что ты хотел видеть, — вмешалась роковым образом. Возможно, твой мозг даже умудрился трансформировать зрительный образ и звуковое сопровождение: Селия, прелестная, мужественно переносящая несчастья Селия, милая, оптимистичная Селия, привыкшая к своей инвалидности, Селия с развевающимися на весеннем ветру золотистыми локонами. Она не кричит, она смеется. Это не вопли, а смех. Девочка-Пятница Кевина стоит прямо перед мишенью, потому что преданно помогает брату собрать стрелы... ах, Франклин, конечно, она помогла бы. А что касается твоего красивого юного сына, то он практикуется в стрельбе уже шесть лет. Его тщательно инструктировали настоящие профессионалы, и он прекрасно знает технику безопасности. Он никогда бы не нацелил заряженный арбалет на другого человека, тем более на своего отца.
Конечно, это игра солнечного света. Кевин просто машет поднятой рукой. Наверное, хочет без лишних слов — он же, в конце концов, подросток — извиниться за грубость за завтраком, за резкое, отвратительное отречение от всего, что пытался сделать для него его отец. Ему интересно, как работает «Кэнон», и он надеется, что ты объяснишь, для чего нужна та кнопка. В другой раз. Если честно, он искренне восхищается достижениями отца в такой необычной профессии, предоставляющей такую свободу для творчества и независимость. Ему просто неловко. Он ведь подросток. В этом возрасте в них кипит дух соперничества. Они хотят помериться силами. Мальчику очень стыдно за его срыв. Все, что он говорил в запале, неправда. Он дорожит всеми теми поездками на поля Гражданской войны хотя бы потому, что только мужчины могут понять друг друга, и он так много узнал в музеях. А вечерами в своей комнате он иногда достает из энциклопедии «Британника» те осенние листья, что вы собрали в прошлом году рядом с домом Теодора Рузвельта. Вид начинающих выцветать листьев напоминает ему о смертности всех, особенно его отца, и он плачет. Плачет. Ты никогда это не увидишь; он никогда тебе не скажет. Но ведь он плачет. Видишь? Он машет. Он машет, чтобы ты принес фотоаппарат. Он передумал, и до школьного автобуса еще пять минут, но он хочет, чтобы ты сделал несколько снимков... для того монтажа в прихожей... Храброе сердце Палисад-Пэрид.
Тот мираж не мог длиться больше пары секунд, но тех секунд хватило Кевину, чтобы выпустить свою первую, смертельную стрелу, может быть, ту, что я нашла в твоем горле, вонзившуюся спереди и торчавшую из шеи сзади. Наверное, она проткнула артерию. Трава вокруг твоей головы в свете прожекторов казалась черной. Три другие стрелы — в центре груди, куда я любила класть голову, в бедре и в паху, чудо которого мы недавно с тобой возродили, — были дополнительными, необязательными штрихами, как несколько лишних колышков по краям хорошо укрепленной палатки.
И все равно я не перестаю удивляться силе, с которой ты карабкался на тот холм, хрипя, захлебываясь собственной кровью. Конечно, Селия не была тебе безразлична, но, возможно, с первого взгляда ты понял, что спасать ее поздно. То, что она больше не кричала, было плохим знаком, но собственное спасение было не в твоем духе. В свете прожекторов твое застывшее, обострившееся лицо с отброшенной на него резкой тенью древка стрелы выражало... такое сильное разочарование.