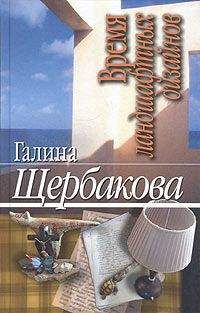И ничего подобного. Оказался другой вход, парадный, кокетливые занавески были слегка поддернуты, как юбочки танцорок в старом водевиле «Лев Гурыч Синичкин». Пахло ванилью и Рождеством, какое уж там поминовение, если самое что ни на есть рождение. Белая стена была пуста, она требовала чего-то в центре или сбоку. Я бы пришпандорила на ней узкий вазон в цвет занавескам и вставила бы лилию на длинном стебле.
– Идем ко мне, – сказала Танька, и в голосе ее чувствовалось удовлетворение, что стою, разглядываю, значит, во мне идет творческий процесс. «Дура, – в ответ думаю я, – такую пошлость, как вазон с лилией, тебе придумает любая тетка, которая хоть раз в жизни имела перед собой белую стену. И если у нее не было ковра по записи или копии «Мишек» из худ. салона, или уж совсем крутых цветных авангардистских квадратов, кубов, шаров и прочей геометрии, купленных возле худ. салона, она бы пришла к вазону, и стало бы ей покойно, хорошо и совсем дешево. Мы идем в Танькин кабинет, кабинет главной чайницы, думаю я свои пакости.
За столом сидит существо с огромными карими глазами и пышной, не кудрявой, а именно пышной шапкой волос. Она строит из письменных принадлежностей и другого подручного материала город на столе и водит по нему колпачок от ручки, который, конечно же, не колпачок, а что-то совсем другое, дружелюбно мыслящее, и она говорит ему тихо: «Подожди. Люди пришли». Потом она улыбается так, что у меня тихонечко колет в сердце, но это не боль, это восторг, умиление, потому что улыбается ангел.
– Ты Алиса, – говорю я каким-то не своим голосом. – А я Инга.
– Кто? – хмурит брови девочка. – Это что такое Ин Га? – Она именно так произносит мое имя, как два.
– Умница, – говорю я ей. – Есть две реки Инд и Ганг. Моя мама – фантазерка, она соединила их вместе, чтоб получилось имя Инга.
– Не морочь дитю голову, – тихо говорит Танька. – Имя, – это она дочери, – конечно, у тети непростое, его можно разгадывать и так, и сяк, а можно просто запомнить, что это имя очень хорошей тети.
– А можно я буду звать вас просто Ин Га? – спрашивает девчонка. – Тетя к вам не подходит. Вы же река.
– Валяй! – говорю я. – Я ведь тебе так и представилась.
– Ах! – смеется Алиса. – Представилась! Как в театре! Вы умеете трещать пальцами, как сахар в «Синей птице»? Я умею. – И она хрустит пальчиками.
– Перестань! – кричит Татьяна. – Сколько раз говорила. Пальцы станут страшными, кости выпучатся…
– Выпучиваются глаза, – отвечает Алиса, – а костям ничего не будет.
За все эти пять-семь минут, что мы болтаем, ее лицо менялось каждую минуту. На нем живет и играет все. Нос, губы, щеки. В следующее мгновение она уже другая. Ей то годик, то целых десять лет. Иногда в глазах возникает такая серьезность, что просто страшно: детям это не положено, это как грех. Но какой может быть грех у ребенка, который «водит» колпачок от ручки? Почему ангелов рисуют белокурыми, кто придумал белому цвету высшую святость? И мне уже хочется нарисовать ангела с волосами цвета каштанов, черных слив, поздней, подгоревшей на солнце вишни.
– Хочу ее нарисовать, – говорю я Татьяне.
– Она не усидит на месте.
– И не надо, – говорю я, – пусть делает, что хочет. Я ведь не умею писать портреты, я ловлю кайф от попытки поймать момент.
– Лови, – отвечает Татьяна. – Все приготовлено. – И она показывает мне пачку хорошей рисовальной бумаги и набор всевозможных фломастеров. Я сажусь на стул, и откуда-то тут же возникает пюпитр.
– Занимайся своим делом, – говорит Татьяна дочери, – Инга попробует тебя нарисовать.
– Вы умеете рисовать? – удивляется девчонка. – А я думала, что вы будете печь пирожные. У нас не хватает такой тети. Чтоб пекла Бе Зе. – Она это тоже произносит как два слова. – Это от слов белый и зеленый или беда и земля?
– А как ты думаешь? – спрашиваю я.
– Я думаю, – медленно, одновременно шепча что-то колпачку от ручки, – я думаю, что ни то, ни другое. Я посижу и подумаю. Это же не просто, как у вас, две реки. Это трудное задание на бе и зе.
Она продолжает водить колпачок, я торопливо набрасываю какие-то ломаные линии и рву первый лист дорогой бумаги.
Девчонка мне не дается. Я ведь занималась своими каляками только по случаю. Надо, чтоб у меня на стене возник квадрат от снятого батика и возникло ощущение дыры, которую надо закрыть. Иногда я пририсовываю к своим заметкам о театре или репортаже с рынка какие-то профили, чью-то ногу или раскрытый рот, и это нравится моим редакторам. Они называют меня автором говорящих картинок. Я обижаюсь, когда сокращают текст, чтоб оставить мою маляку, но когда убирают маляку, бывает почему-то тоже обидно.
Сейчас же нет никакой причины рисовать, кроме как поспорить с белым ангелом и нарисовать темного. Но нет рядом слов, которые не скажут то, что скажет росчерк фломастера. Фразы, над которыми я мучаюсь, все из слов, употребленных тысячу раз, а вот муха со слуховым аппаратом или стакан в шляпе – это родилось только что, выпорхнуло, встряхнулось и село на лист. Живая, сопящая девчонка убивает спонтанность моих нехитрых изображений. Танька – плохой провидец, если расстаралась на такое количество прикладного материала, видя только мой самошарж, сделанный в минуту отчаяния. Мне нужно состояние отсутствия слова, острая, до боли нужда и пустота, необходимость ее заполнить. Как сердцу высказать себя?!
Я не помню, сколько я испортила бумаги. Девочка выходила из-за стола поп и сать, вернувшись, смотрела на листы, которые были выброшены. Она аккуратно собрала их и, взяв у меня часть фломастеров, стала рисовать на обратной чистой стороне бумаги. Не пропадать же добру.
В этот момент использования моей бумаги я и поймала это ее выражение – печальной сочувствующей насмешки. Она жалела меня, нескладную тетю-речку, у которой оказались кривые руки. Но я, видимо, ей все-таки понравилась. Потому она и жалела меня, сочувствовала и смеялась сразу. И кажется, на бумаге это получилось – мордаха умного, понимающего, смешливого ангела.
Я решила взять все домой, чтоб поколдовать над этим еще, но пришла Татьяна и посмотрела на рисунок. А потом – бегло так, навскидку – на меня.
* * *
Сколько прошло времени! Ее уже давно нет, а я все разгадываю взгляд троечницы, которая всласть занималась инцестом в десятом классе, родила чудо чудесное – дочку, открыла чайную, похоронила моего отца, а потом взяла и посмотрела на меня. Во взгляде было больше, чем понимание, в нем было проникновение. Так иногда смотрят цыганки, те, которые не пристают нагло и бесстыдно, а просто проходят мимо. Они цепляются к другому, тебя же зацепят глазом и просто пройдут, унося с собой все знание о тебе, которое не продашь, не купишь ни за какие деньги – ей, цыганке, знание о тебе самой нужно. Ведь судьба, прочитанная ею, это то, от чего она потом будет отщипывать крохи для других. В этот день откровения цыганка и гадать больше не будет, она прочитала судьбу скошенным глазом, ах, какое это счастье – выиграть не деньги, а постижение сути. Она пойдет домой, распустит волосы, чтоб расчесать их большим костяным гребнем, и поблагодарит Бога, что в суете жизни он не забыл о ней и оставил ей тайну знать. Хотя что я знаю о цыганках? Так, наблюдение.