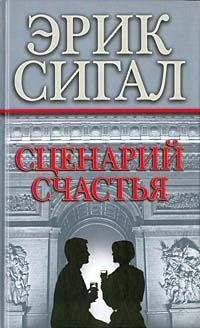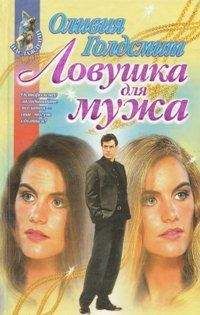Она умоляла меня подать документы на медицинский в Нью-Йорке, чтобы мы могли и дальше играть вместе. Затея показалась мне заманчивой, несмотря даже на то, что Чаза приняли в Мичиганский университет и уже осенью он должен был поселиться в нашем студенческом кампусе.
Как бы то ни было, я сходил к куратору по медицине, взял пачку буклетов про медицинские школы университетов Нью-Йорка и стал их изучать.
И вот настал момент отъезда Эви. Думаю, большинство закадычных друзей закатились бы куда-нибудь на прощальный ужин. Однако у нас имелись собственные представления о том, как провести последний вечер. Мы спустились в свою любимую репетиционную и пробыли там с шести вечера почти до полуночи, пока нас не пришел выгонять вахтер по имени Рон. Выслушав объяснения по поводу нашего особого случая, он разрешил нам закончить пьесу, которую мы в тот момент играли, пока он запирает остальные помещения.
И в завершение мы сыграли сонату Сезара Франка, которую недавно записали на пластинку Жаклин Дю Пре и Даниэль Баренбойм.
Музыка была исполнена печали и тоски, и мы оба играли с таким чувством, какого никогда не было во всех наших предыдущих исполнениях.
На другое утро я отвез Эви в аэропорт. Мы обнялись, а потом она исчезла.
Домой я ехал в осиротевшем автомобиле.
В сентябре в Анн Арбор приехал мой талантливый брат. Он очень вырос и был готов к самостоятельной жизни.
Естественно, его представление об этой самой жизни было в большой степени обусловлено душевными терзаниями нашего детства. Создавалось такое впечатление, что Чаз торопится поскорее обзавестись семьей и обрести некую душевную стабильность.
В подтверждение, еще даже не выбрав себе специализацию, он завел постоянную подружку.
Не прошло и нескольких месяцев, как они с Эллен Моррис, его веснушчатой однокурсницей-гитаристкой, счастливо зажили под одной крышей. Это была квартира на верхнем этаже дома на две семьи в Плейнфилде, в двадцати пяти минутах езды от университета на автобусе.
Я тем временем был с головой погружен в дипломную работу по музыке и одновременно продирался сквозь дебри органической химии — для меня это был своего рода аналог сильной зубной боли.
По нескольку раз в неделю мы с Эви созванивались. Это происходило по вечерам, обычно в одиннадцать, когда оплата производится по льготному тарифу. Звонки, разумеется, не могли компенсировать нам живого общения и уж, конечно, не шли ни в какое сравнение с совместным музицированием. Тем не менее мне доставляло удовольствие выслушивать ее суждения по самым разным вопросам — от моих девушек до дипломной работы. Эви больше интересовало последнее. Она даже считала мой диплом достойным публикации.
Я писал об одном-единственном, самом плодотворном годе в творчестве Верди, когда были созданы его вдохновенные оперы «Трубадур» и «Травиата». Я усматривал в них схожесть стиля и прослеживал эволюцию, какую претерпело мастерство великого композитора в оркестровке. Это было все равно что проникать в глубины его сознания. Оба рецензента, по-видимому, разделили мнение Эви — работа была оценена на «пять с плюсом».
На День благодарения нас с Чазом приехала навестить мама. Не одна, а с сюрпризом. Сюрпризом был некий Малкольм Хэрн, доктор медицины. Я давно заподозрил, что в маминой личной жизни кто-то появился, и оказался прав.
Малкольм был хирург. Разведенный, с двумя взрослыми детьми. Он не только произвел на нас впечатление душевного и солидного человека, не лишенного чувства юмора (и противоположного отцу взгляда на мир), но оказался еще и причастен к музыке. У него был оперный тенор, причем самый настоящий — Малкольм мог чисто и без перехода на фальцет взять верхнее до. Одного этого было достаточно, чтобы сделать его желанным гостем на любом певческом мероприятии. Малкольм был звездой больничного мужского квартета. Слушая его высокую партию в «Не будь такой бессердечной», самые отъявленные скептики таяли. Но самое главное, он, похоже, действительно любил маму, а значит, у нее появлялась новая надежда обрести свое счастье.
Эви обрадовалась, когда я рассказал ей о Малкольме. («Хирург, хороший мужик, да еще и верхнее до? Даже не верится!»)
Я сказал, что она может сама в этом убедиться, когда познакомится с ним на Рождество.
— Ой, Мэтью, я никак не решалась тебе сказать. Боюсь, я не смогу приехать. Мы с Роджером…
— Роджером ? — Я вдруг взревновал ее. — Ты говоришь о маэстро Джозефсон?
— Ну да. Собственно, он и подходил к телефону.
— Вот тебе на! — вдруг смутился я. — Что ж ты не сказала, что я не вовремя…
— Ты не бываешь «не вовремя». А кроме того, я ему все про нас с тобой рассказала. Послушай, поехали с нами в Шугарбуш на недельку! На лыжах покатаемся…
— Черт, как жаль! Я не смогу. У меня работы выше головы. Боюсь, и домой-то не выберусь. Ну, да ладно. Счастливого Рождества!
Я повесил трубку, чувствуя себя полным идиотом. Я поздравил Эви с праздником аж за месяц.
На медицинский я поступил в Анн Арборе. Это давало мне возможность регулярно видеться с Чазом и Эллен даже после того, как они официально оформили свой брак. Она уже начала работать в школе, а он получил место стажера в ассоциации медицинского страхования «Голубой крест».
В тот год случилась эпидемия свадеб. В августе Эви с Роджером связали себя узами брака в Тэнглвуде, где он играл Дворжака с оркестром знаменитого Зубина Меты. Хорошо, что я приехал на два дня раньше: пока Роджер был на мальчишнике, с Эви случился приступ неуверенности. («Понимаешь, Мэт, он такой знаменитый! И такой взрослый! Зачем ему девчонка вроде меня?»)
Мне удалось убедить Эви, что такой умный человек, как Роджер, не может не разглядеть в ней незаурядную личность. И вообще, кто бы на ней ни женился, должен считать себя самым везучим человеком на земле. К тому моменту, как в воздух полетели пробки от шампанского, от ее сомнений не осталось и следа.
Что до меня, то лучшей частью свадьбы Эви стал концерт, который дали в честь новобрачных гости по завершении официальной церемонии. Кажется, я «живьем» услышал половину своей коллекции грамзаписей.
Я вернулся домой и с головой погрузился в мир медицины. Осенью того же года Эви ушла из консерватории, чтобы сопровождать Роджера на гастролях, и постепенно наши дороги разошлись.