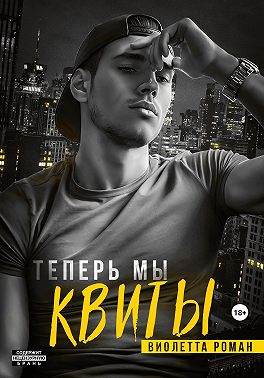из моих рук и, отвинтив крышку, протягивает обратно.
– Выглядишь, как узник концлагеря.
Я делаю глоток и отдаю воду обратно. Значит, вот так я выгляжу в его глазах? Три месяца чистого ада, но все еще с лишними кило. А ему все равно не так? Снова есть во мне что—то, что не может позволить посмотреть на меня как на достойную?
Я не хочу никакого разговора. Я вижу, что он другим стал. Холодным, отчужденным. Больше нет моего Луки. Стоит открыть глаза, и посмотреть на правду.
Я одна. На краю обрыва, и некому мне руки подать…
– Не хочу отнимать твое и свое время – прочистив горло, поднимаю на него глаза.
Он стоит у стола, облокотившись о него. Руки в карманах, взгляд расслабленный, где—то даже равнодушный.
Лука кивает.
– Говори.
– Я хотела бы прояснить ситуацию с пистолетом и Глебом. В ваших глазах я выгляжу сволочью и предательницей. Да, я была в курсе о том, что из этого оружия убили Потапа. Я просила тебя помочь мне, так и не раскрыв всей правды.. Не потому что это было моим планом изначально. Я просто не смогла этого сказать.
Он молчит. В глазах ни единой эмоции, и от этого мне еще сложней.
– Давай на чистоту. Потапа это не вернуло бы, а Глеб… Он – мой брат, моя семья. Я хотела помочь ему, а еще боялась потерять тебя…
На его губах улыбка кривая. Ехидная, выжигающая кислотой итак израненное нутро.
–Глеб – твоя семья, – кивает словно сам в чем—то только что убедился. –Только скажи, а кем были мы? Кем была Марика, Лешка, Илай, Нинель… в конце концов, кем был я?
Его слова ранят так больно, что я не сразу нахожусь с ответом.
– Ты не понимаешь… – в моих глазах слезы. Я понимаю, что там стена. Не пробьешь, не изменишь ничего. Между нами огромная пропасть.
Он кивает.
– Не понимаю, Ослик, – подходит, в глаза мне смотрит, касается моих волос. И от этого действия, ноги подкашиваются. – Не понимаю, потому что ты была для меня всем.
У меня слезы по лицу текут, а он притягивает к себе.
– Я так устала, Варламов… я так устала… – в грудь его упираюсь, задыхаясь от слез.
Варламов молчит. Просто замирает в обнимку со мной.
– Марика, она теперь ненавидит меня, – голос сорван, ломаный какой—то.
И сейчас он не отвечает. Продолжает покачивать в объятиях. А я пользуюсь тем, что он дает. Все беру, до последней капли. Пять минут рядом с ним? Что ж, и этому рада. Знаю ведь, что больше не будет возможности побыть с ним.
– Не плачь больше. Пусть все хорошо у тебя будет, – подцепив подбородок, вглядывается в глаза мои.
А в его я читаю приговор. И сердце не бьется.
– Это все? – губы не слушаются, мне хочется разрыдаться, раскричаться во все горло.
Ему больно. Я же вижу, как борется с собой. Вижу как сглатывает, силясь сказать то, что окончательно разобьет последнюю надежду.
–. Ты не перестанешь быть Вершининой. Я не перестану быть тем, кем являюсь, Ия.
Пусть так. Если ему проще, я должна отпустить. Должна научиться жить без него, должна идти дальше. Смахнув с глаз слезы, отстраняюсь от него.
Хочется исчезнуть. Просто перестать существовать. Смотрю в глаза его холодные, равнодушные, а самой орать хочется. Душу нараспашку перед ним, броситься в ноги и умолять, чтобы не бросал, чтобы шанс дал. Просто пусть рядом будет… Когда он со мной, я ничего не боюсь. Ни Юли, ни Ромы, ни смерти Глеба. Я все готова принять, даже самое страшное. Ттолько бы за руку меня держал. А сейчас вижу, что нет для меня места здесь. Ни в семье его, ни под крылом. Не нужна, даже такой, похудевшей на пятнадцать килограмм. Он Кате улыбается, и так ласково отвечает ей, а когда на меня смотрит, холодом зубы сводит.
Стук в дверь.
– Лука, ну ты скоро? – Марика, чтоб ее.
– Иду, – отвечает, все еще в глаза мне смотрит.
Дверь закрывается, а я в себя прихожу. Нужно просто уйти. Плакать и орать буду там, в запертой спальне. Ненавидеть себя, презирать. И его ненавидеть начну. Обязательно начну, только нужно время, чтобы собраться.
– Посиди здесь. Демид тебя отвезет домой. Не стоит в таком состоянии по улицам одной бродить.
Он отходит от меня. Его руки больше не греют, его запаха больше нет. Мне так холодно. Смотрю на него и сдохнуть хочется. А он забирает куртку с кресла и даже не обернувшись, выходит за дверь. Слышу смех Марики и его голос. И меня снова от боли пополам сгибает.
Я выхожу на улицу и, не останавливаясь, направляюсь к остановке. Хочу отойти на пару кварталов и вызвать такси. Телефон в сумке дребезжит уже минут пять. Оскар. Горькая улыбка кривит губы. Не звонил ведь совсем, а тут места себе не находит. Будто чувствует, что рядом Варламов.
В этот момент возле моих ног резко тормозит старенькая Хонда Цивик. Пассажирское окно опускается, и из глубин салона слышны оглушительные басы музыки.
– Прыгай в тачку, я спешу, – Дема недовольно хмурится, отворачиваясь.
А мне не по себе становится. Словно одолжение мне делает. Не нужна мне их жалость. И то, что Варламов заставил Огинского везти меня домой – унижает.
– Я сама доберусь, езжай, куда ехал, – развернувшись, начинаю идти по тротуару. Душу в себе слезы. Запихиваю всю боль внутрь. Здесь, на улице, вдали от Луки мне намного легче собраться. Теперь мне плевать на все. Я сейчас соберусь и буду жить. И без них смогу.
Демид резко газует, и спустя секунду его машина вдруг заезжает на тротуар, тормозя в нескольких сантиметрах от фасада здания. Он перегораживает мне путь и выходит из салона. Облокотившись о крышу, нагло пялится на меня.
– Слушай, стукачка, хватит мне характер свой показывать. Знаю я его. На улице темнеет, не хер одной тусить. Поехали, расскажу, как за решеткой погостил, – а на губах улыбка до ушей, и так тепло от нее.
– Ты так сильно хочешь поговорить об этом? – задрав подбородок, складываю на груди руки.
Он в изумлении вздергивает бровью.
– Ты видела подвеску на этой старушке? А я за тобой через бордюр перелетел. У тебя еще есть вопросы, жестокая ты женщина?
Легко мне с ним. И всегда так было. Несмотря на то, что порой он меня до чертиков раздражает, все равно люблю этого идиота. И скучала жутко.