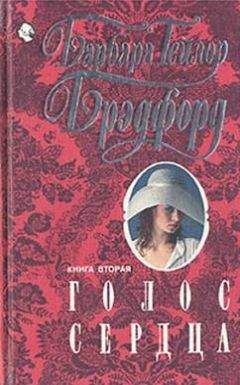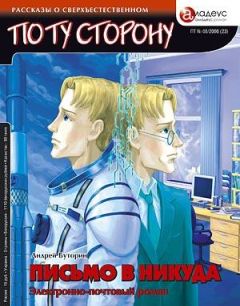— Спасибо, Никки, большое-пребольшое.
Катарин отошла к окну и немного постояла там, отвернувшись, чтобы скрыть навернувшиеся на глаза слезы. Наконец она взяла себя в руки и обернулась.
— Могу я надеяться на то, что мы опять сможем стать друзьями? — спросила она, но что-то в их лицах подсказало ей, что не стоит форсировать события. — Ладно, возможно, что еще слишком рано. Нельзя ожидать слишком многого немедленно, — пробормотала она.
Катарин вышла из отеля «Карлайл» через подъезд на Семьдесят шестой улице, кивнула швейцару и быстрым шагом двинулась в сторону Мэдисон-авеню, пересекла ее и пошла дальше к Пятой авеню. Она направлялась в картинную галерею Фрика, располагавшуюся в нескольких кварталах от отеля. За ленчем она приглашала Эстел Морган пойти с нею посмотреть ее любимую коллекцию живописи, но у той сегодня был последний срок сдачи материалов в редакцию, и Эстел пришлось возвращаться к себе в офис.
Был ясный день, прохладный, но бодрящий и солнечный. Безоблачное небо сияло незамутненной синевой, воздух был будто пропитан электричеством. «Энергия Манхэттена! — подумала Катарин. — Нет, наверное, во всем мире не найти города, равного этому. Какое счастье, что я вернулась сюда. Нью-Йорк вдохнул в меня новую жизнь». На ее взгляд, в Лондоне преобладало мужское начало, ассоциирующееся у нее с комфортом, запахом хорошей кожи, твида и горящих в камине дров, а Париж представлялся ей немного женственным, обманчивым, шелестящим шелками и атласом, благоухающим тонкими духами и сияющим свечами в канделябрах. Но Манхэттен соединял в себе оба эти начала, мужское и женское. Катарин взглянула вверх, потом оглянулась по сторонам. Глубокие каньоны со стенами из стекла и стали, по которым текут реки «кадиллаков» и желтых такси. Нью-Йорк ассоциировался у Катарин с блеском бриллиантов, кипением шампанского, пузырящегося в бокалах, с мягкостью соболей и норок. Этот город — уникален, он волнует, бросает вызов, у него свой особый пульс, свой неповторимый ритм. «Мой самый любимый из всех городов, где мне приходилось бывать», — добавила про себя Катарин.
Она шла, озираясь по сторонам, поражаясь тому, какими живым и волнующим кажется ей все вокруг, но потом ей пришло в голову, что весь мир переменился для нее в последние дни, она смотрит на все более ясными, лучше видящими глазами. Катарин подумала о Нике и Франческе. Интересно, дадут ли они снова знать о себе? Она очень на это надеялась. Но если — нет, то будет весьма печально, хотя возобновление их дружбы теперь от нее не зависело. Поэтому не стоит задумываться об этом и строить планы. С недавних пор Катарин приучила себя жить только сегодняшним днем, сосредоточиваться только на текущих делах и не заглядывать в будущее. Будущее для нее теперь — нечто невесомое, неосязаемое. Она улыбнулась сама себе и вошла в дом, где располагалась коллекция Фрика.
О ее будущем заботится Бью. В понедельник вечером он звонил ей, торопясь узнать, как идут ее дела в Нью-Йорке, расспрашивал о ее ближайших планах. Катарин рассказала ему о своей встрече за ленчем с Ником и Франческой, поведала о возможном примирении с ними, и Бью, кажется, остался этим доволен. Но, как она поняла, его особенно волнует предстоящая ей сегодня в пять часов встреча с Майклом Лазарусом, о которой Катарин вскользь упомянула в разговоре. Но ее саму эта встреча не беспокоила. Она чувствовала себя спокойной, целеустремленной, хорошо владеющей собой. И сейчас она вовсе не собирается задумываться о Майкле Лазарусе. Перед ее отъездом из Лондона доктор Мосс посоветовал ей не пытаться начинать решать проблемы до их возникновения и, как он выразился, «не впадать в отчаяние преждевременно». По мнению знаменитого психиатра, именно это служило причиной того подрывающего здоровье Катарин постоянного возбуждения, в котором она прожила большую часть своей жизни. Как замечательно относился к ней Эдвард Мосс все эти годы. Ему одному она обязана своим возвращением к жизни, своим здоровым теперь рассудком.
«Ладно, довольно, я пришла сюда смотреть картины, наслаждаться красотой, а не рассуждать о болезнях», — твердо приказала себе Катарин и прошла в зал, где были выставлены картины Фрагонара. В течение следующего получаса она неторопливо двигалась по кругу от одной картины к другой, восхищаясь ошеломительными портретами и пейзажами, непревзойденными в своей жизненности. «Неудивительно, что Фрагонара считают одним из величайших художников восемнадцатого века», — подумала Катарин, стоя, склонив голову набок перед одной из картин.
— Фрагонар предназначал в свое время это панно для салона мадам Дюбарри, ты знала об этом?
— Ник!
Пораженная тем, что вдруг слышит его голос, Катарин резко обернулась. Он стоял всего в нескольких шагах позади нее и улыбался. Катарин сразу заметила, что его глаза смотрят на нее ласково и дружелюбно. Горевшая в них прежде враждебность куда-то пропала, будто ее и не было. Катарин улыбнулась ему в ответ, а Ник, подойдя к ней, взял ее за руку, наклонился и самым непринужденным образом поцеловал ее в щеку.
— Что ты здесь делаешь? — спросила Катарин.
— То же, что и ты — смотрю картины. Они превосходны, не находишь?
Катарин снова обернулась к панно.
— Да, подобный талант внушает мне благоговение.
Ник встал рядом.
— Наши представления о собственных способностях в искусстве сильно проигрывают в сравнении.
— Расскажи мне про мадам Дюбарри, — попросила Катарин, внимательно глядя на Ника.
— Ах да, Фрагонар предназначал ей это панно в то время, когда она была фавориткой короля Людовика Пятнадцатого. Но старый король умер, на трон вступил Людовик Шестнадцатый, а мадам Дюбарри сослали в ее поместье. Потом разразилась революция, сломавшая жизнь Фрагонара, бывшего преимущественно придворным живописцем. Он перебрался жить в Грасс, где украсил этим панно дом своих друзей. Это панно называется «Союз любви и юности», и оно превосходно отображает представления того времени о любви и галантности. Я могу часами любоваться им, восхищаясь мельчайшими деталями.
— И я тоже. А что сталось с мадам Дюбарри? Я плохо помню французскую историю.
— В конце концов ее по приказу Революционного Трибунала арестовали, обвинив, конечно, ложно, в государственной измене. Она кончила свои дни на гильотине в возрасте пятидесяти лет. Малоподходящая смерть для такой красавицы, ужасная, отвратительная.
— Да.
Чуть заметная тень грусти пробежала по лицу Катарин. Потом она рассмеялась:
— Ты так много знаешь из истории!
— Если ты помнишь, я все-таки учился в Оксфорде. А потом Бог наградил меня фотографической памятью. Пошли походим, — сказал Ник, беря ее под руку. Он многое еще порассказал ей о Фрагонаре, мадам Дюбарри и Людовике XV, отвечая на ее вопросы тепло и сердечно. Катарин поразило полное отсутствие неловкости между ними. Неожиданно Ник перешел от беседы на общие темы к вопросам, касавшимся их лично.