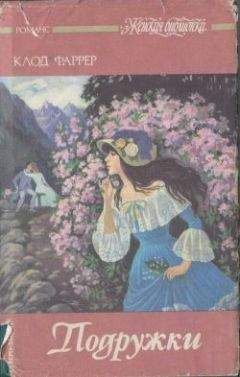— Стыдно признаться, — честно сказал Павел, — но я не знаю ее имени. Просто однажды она была ко мне добра, когда мне казалось, что это последнее на земле кончилось совсем и навсегда. Она помогла мне выжить, а я не удосужился узнать ее имени.
— Заходите, — сказала Алка, несмотря на остораживающие ее движения Георгия, — заходите, заходите… Вы Павел Веснин.
Он шел, ошеломленный знанием девочки, кто он есть такой. Разве он тогда представлялся? Не помнит. Черт его знает. Может, и представлялся. Та кошмарная ночь так и осталась ночью, темнотой, бедой и женщиной без имени.
Да, он узнал эту квартиру. В маленькой комнате все так же стоял диванчик, но его провели в большую, и тут он увидел портрет женщины, имени которой не знал. Алка увеличила фотографию матери с любительского снимка.
Сама Алка такой маму не знала, это была совсем молодая и счастливая девушка, но ведь именно счастье, идущее от нее, Павел и помнил.
— Да, — сказал он. — Это она. Только очень молодая, как сейчас вы.
— Нет, — сказала Алка, — здесь маме двадцать лет, а мне еще восемнадцать.
— Скажи, как мне ее увидеть? — спросил Павел.
— Мамы нет, — ответила Алка. — Она умерла еще в прошлом году.
— Господи! — прошептал Павел. — Господи! Как же так? Почему? Я вообразить себе не мог, когда оказался у ваших дверей.
— Ну откуда же вам знать? — сурово сказала девочка.
— Что у нее было? — недоумевал Павел. И тут он увидел, как девочка взяла мальчика за руку и сжала. Это был определенно какой-то сигнал — молчать, не возникать. Не сказать правду.
— А вы в Москве проездом, — спросила Алка, — или как?
— " — Да нет, — ответил Павел. — Я теперь тут живу.
Простите, а где похоронили вашу маму?
— На Ваганьковском, — сказала Алка. — Сами не найдете. Это в самой середине. Туда надо знать, как идти.
Павел не настаивал, потому что понимал, что если живая женщина кусочком своего счастья однажды поделилась с ним, то мертвая не имела к нему никакого отношения.
— Извините. Ей-богу, я потрясен. — Он уже уходил, когда девочка сказала:
— Мою маму звали Елена Громова. Она вас помнила.
Она рассматривала его. Мысли кружили разные. Вот человек, который стал причиной смерти твоей матери. У него есть сын, который на самом деле сын бабули и Кулачева, он даже похож на Кулачева. Они все обожают Пашку, он такая прелесть, что других таких просто нет. И при чем тут этот могучий дуболом, на которого когда-то запала ее бедная, потерявшаяся в жизни мамочка. Но она сто раз ей повторяла: «Запомни: его зовут Павел Веснин».
Зачем? Вот он сидит перед ней. Что делать ей дальше?
— Она умерла родами, — сказала Алка. Именно так, как говаривали раньше. Сейчас говорят: умерла от родов.
— В наше-то время? — пробормотал Павел.
— Сложный случай, — ответила Алка.
— А ребенок жив?
— Замечательно жив, — сказала Алка. — Между прочим, его зовут Пашка — Это была уже подсказка.
Но имя Пашка никогда не идентифицировалось у Павла с собственным именем. Дома его звали Павлик, Павлушка, в нежности — даже Люшенька. А Паша была дворничиха.
Она собирала «пьяную посуду для семейного додатку». А Алка смотрела ему прямо в зрачки, она ждала, как вспыхнет в них потрясение. Но зрачки как зрачки. Черные неговорящие точки. В них не было ничего.
— Видимо, вы о чем-то с мамой недоговорили. — Теперь она спокойно уводила от главного. — Во всяком случае, от мамы я слышала ваше имя и фамилию, не помню в связи с чем.
— Мальчик живет с отцом? — спросил Павел.
— О да! И с бабушкой! Они так над ним трясутся, как ненормальные. Я его тоже обожаю. Сейчас я вам покажу фотографию.
И Алка вынесла большую фотографию, на которой Кулачев (тот самый умелец, удалец, что стоял у двери — узнал Павел) держал на руках толстого ребенка, из тех, которым полагается рекламировать прикормы и витамины. Обняв взрослых за плечи, широко улыбалась Алка, а мальчик из соседней комнаты (скорее всего грузин) стоял со стороны бабушки, слегка смущенно отстраненный.
— Спасибо, — сказал Павел, возвращая фотографию.
— Каков наш Пашуня?
Он идиот. Он не понимает, что фотографии с детьми показывают исключительно для восхищения.
— Классный! — ответил Павел, подымаясь. — Извините, что явился «не звали». — Он рванул так, потому что возникло странное искажение времени: будто он здесь уже долгое-долгое время, а вот отца бутуза видел вчера, и сейчас почему-то испытал странное беспокойство, что выйдет, а на площадке он, вот и объясняйся, и создаст Павел ситуацию, которую ненавидел больше всего, — объяснение с мужем-козлом, со свежевыросшими рогами, а ты ему: ты что, Вася, Коля, Борюха, я ж за спичками, за солью, я ж просил мне брючину зашить, помнишь, как я на гвоздь напоролся.
Одним словом, Павел выскочил как ошпаренный и, как в прошлый раз, лифтом пренебрег, а пошел, как знал, на мосток, потом в лес, а там глянь — к метро вышел.
Ну что ж, сказал он себе, эту тему мы закрыли гробовой доской Осталась мысль: от родов все еще помирают.
Тоня очень слабая, с давлением, надо, чтоб она не напрягалась, а значит, ему срочно нужна работа. Он целый день вызванивал старых знакомых, и, надо сказать, никто его в грудь не отпихнул, это все были мужики, с которыми он кремировал дочь. Все дали слово помочь, взяли его телефон, сказали, что это здорово, что он теперь в Москве, что тут возможности большие, была бы голова с мозгами. Он сказал, что с ним женщина, которая ждет от него ребенка. Тоже приняли правильно, и никто глупого вопроса: откуда, мол, взялась — не задал. Вернулся он не к пяти, а к восьми. О том, что мог позвонить, сообразил уже дома, а потом стало интересно, как она это воспримет — никак, мол, твои дела; или пожурит, что опаздывает; или вообще сделает вид, что ей — пришел не пришел — по фигу.
То, что он увидел, потрясло его. В чистенькой, уютненькой квартирке пахло вкусно, а на пороге стояла зареванная, испуганная женщина с такой паникой в глазах, с таким ужасом, что он не знал, что ей сказать и как повиниться. Она думала, что с ним что-то случилось, — там, где она жила всю жизнь, женщины бежали в кабаки, в милицию, обегали по кругу знакомых. Но тут, в Москве? Куда и к кому ей бежать?
У мужчин принято считать, что самое отвратительное — это бабьи слезы, мол, нарочно душу тянут, со своим каким-то подлым расчетом, что у всякой бабы слезы очень близко к выходу, что даже песня есть: «Пусть, мол, поплачет, ей ничего не значит». Правда, железных теток его сотоварищи тоже не жаловали. «Баба без слезинки, что цветок без росинки».
Сейчас не годилось все. Была всесокрушающая вина перед женщиной, которая ждала, которая повесила на окна свежекупленные тюлевые занавески, а на стол постелила льняную скатерть с синими квадратами, поставила тарелки и чашки. Все это было сделано для него, черт возьми, он уже не помнит, чтоб что-то делали именно для него.