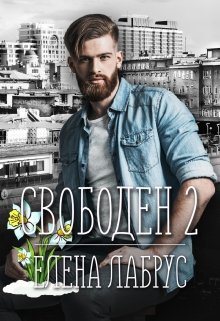свадьбу? Будешь Хозяйкой Стеклянной Горы, — ржёт он. — Я легко со своими возможностями верну его к жизни, этот заводик. Да и не только его.
— Спасибо, я лучше буду хозяйкой Медной, — забираю я руку. И сомневаюсь, что Бережной оценил мою иронию, но ему и ни к чему. — Ген, не думаю, что Елизаров дурак.
— Он не дурак. Но он сентиментальный, щедрый и склонен к широким жестам. А его водят за нос и этим пользуются. Он сейчас дел натворит и умоет руки, а разгребать твоему Бородатому. Так что, родная моя, не стоит тебе выходить за него замуж. Может, трахается он и хорошо, а вот своё будущее я бы с ним связывать не советовал. Раз допускает, чтобы отец такую херню творил, значит, слабак. Панты одни, костюмчики эти, галстучки, борода, брюки со стрелочками. А сам на папку богатенького рассчитывает. И зачем тебе такой муж?
— Надеюсь, это все твои аргументы? — всматриваюсь я в его лицо. И даже страшно, что ведь он это на полном серьёзе. Искренне считает, что для меня суммы на счету с нолями важны. И ведь по-своему, но счастья мне желает. А счастье для него — это достаток. Вот и беспокоится, что по миру я с таким мужем пойду.
— Хочешь сказать, они не настолько убедительны, как твои? — оттягивает он на груди безобразно грязную рубашку и усмехается. — Ладно, уговорила. Не хотел я до этого опускаться, но вижу доводы разума до тебя не доходят.
— Не доходят, Ген.
— Ну давай по-другому объясню, — тяжело выдохнув, отставляет он пустую тарелку. Не спеша вытирает губы. Снова откладывает в сторону салфетку. — Трахает твой жених эту дочку Лисовского. Активно. И только ты, Малыш, этого не знаешь.
Эх, зря я надеялась, что до баб не дойдёт. Да что ж у них всё вечно сводится к одному?
— Всё я знаю. Скажу тебе больше, Ген, — обречённо вздыхаю я. — Он два года назад чуть на ней не женился. Об этом только ленивый уже не в курсе. Да, было. И что с того?
— Нет, Малыш. Ты опять не поняла. Не «было». А есть. Был я несколько дней назад у Лисовских в доме. И твой Бородатый там тоже ошивался.
— Ещё скажи, что ты свечку держал.
— Не держал, — улыбается он недобро. — Но хочешь скажу, как она его ласково называет? Фифочка эта, брюнеточка, дочка Лисовского. Как кота, — выдерживает он паузу для большего эффекта и словно выплёвывает мне в лицо: — Тёмас. Нет, Тё-ё-ё-мас, — блеет он, изображая тонкий девичий голосок.
— Ген, скажи мне, только правду, — смотрю я на него холодно, строго. — Тебе же на хрен не сдался этот стекольный завод, да? Ты, пользуясь своими связями, полез во всё это просто чтобы насолить мне.
— Не насолить. Вернуть тебя, Малыш, — наваливается он на стол. — Выходи за меня, а?
— Даже если ты останешься последним мужиком на земле, — также наклоняюсь я. — Нет.
— А ведь когда-то ты любила меня.
— Никогда, — качаю я головой. — Я тебя жалела, Ген. Ты был такой матёрый, упрямый, несгибаемый и такой одинокий, неприкаянный и никем не обласканный. Словно одичавший пёс, что когда-то был ручным.
— Ты бы знала, как я по этому скучаю, Малыш, — и правда как у пса блестят, наливаются кровью его глаза, потому что смотрит он на меня не моргая. Потому что мужики не плачут. — По твоему теплу, нежности, запаху. Как невыносимо мне без тебя, Малыш. Лан! Останься со мной.
— Прости, Ген, — встаю я, и он провожает меня глазами. — Но ты… не прыгнул.
— И куда ты? — кричит он мне вслед.
— В туалет, — отмахиваюсь я, не поворачиваясь.
И, захлопнув за собой дверь, без сил падаю на закрытый стульчак. Сколько слёз я пролила по этому мужлану. От обиды, от тоски, от того, что он так и не снизошёл. Нет, не до любви. Хотя бы до уважения. До признания того, что ему со мной хорошо. Хотя была какая-то особая прелесть и в его грубости. Или я просто искала хорошее в том, что у меня было?
А он упрямо твердил «Я, Я, Я», «хочу», «сказал», «слушай» и просто трахал.
Больше я не держу на него зла. Но и жалеть не стану. А уж лезть и рушить мою жизнь не позволю тем более.
«Свиделись, поговорили и будет», — под аккорды классического шансона из репертуара то ли Джо Дассена, то ли Далиды, что звучат в маленьком уютном туалете, отделанном в стиле португальской азулежу: расписной глазурованной глиняной плитки, я мою руки, мочу лоб и виски холодной водой, поправляю остатки макияжа.
И благополучно поворачиваю ручку замка, чтобы выйти, когда она вдруг… остаётся у меня в руке.
А мои усилия по засовыванию её обратно заканчиваются тем, что штырёк, который должен открывать замок, уезжает вглубь, и я оказываюсь в запертом туалете.
Мне даже дверь потрясти не за что. Я могу только робко в неё постучать.
— Аллё! Меня кто-нибудь слышит?
— Пароле, пароле, пароле… — отвечает мне туалетное радио.
— И какой тут пароль, чтобы выйти? Не фамилию же называть? — смеюсь я, осознавая всю абсурдность ситуации.
И реально от смеха не могу ни позвать на помощь, ни крикнуть. Присев к оставшейся от замка дыре меня хватает только на то, чтобы поугукать в неё как филин, а потом упереться лбом в стену и заржать. Блин, я даже позвонить не могу — телефон остался в сумке.
Определённо, мне нельзя ходить в общественные туалеты. Со мной в них вечно что-нибудь случается.
— Лю-ю-юди! — предпринимаю я бесплотную попытку позвать на помощь. Но, как и до этого, выходит у меня несмело, тихо и неэффективно.
— Эге-гей! — падаю я в очередном приступе смеха на стульчак. И с надеждой, что может меня всё же спасут, просто сижу.
Жду, может, Бережной там очнётся, что меня слишком долго нет. Или кто-нибудь из персонала решит навестить самый дальний из туалетов для посетителей.
Никогда бы ни подумала, что я окажусь такой беспомощной в такой банальной житейской ситуации, что даже становится себя жалко. Даже на помощь не могу как следует позвать. Стыдно как-то, неловко.
«Спасите меня, пожалуйста, кто-нибудь! Хелп!» — пищу я, и вздохнув, кладу голову на холодную столешницу раковины. И просто лежу, не зная сколько времени прошло, и чувствуя себя такой слабой, жалкой и никому не нужной, что хочется плакать.
Я даже смахиваю выкатившуюся слезу, когда вдруг слышу за дверь до боли знакомый голос.
— Лана!
— Артём?! — подскакиваю я.
— Лан, с тобой всё в