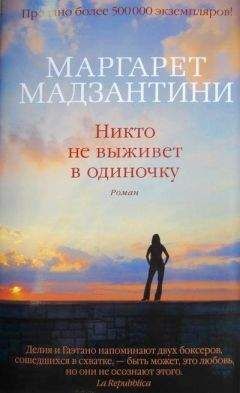Я хочу немного почитать перед сном. Но кажется, «Барышня» Андрича сегодня так и останется в отеле «Европа»… слова повисают, бесполезные, как бельевые прищепки на пустой веревке. Скромная постель, тюлевые занавески, бежевый коврик — аккуратно прибранная комната обычной скромной женщины. Я встаю, заглядываю в шкаф: платье в цветочек, женский костюм, два мужских пиджака, внизу стопками лежат простыни, полотенца. На створке — металлический держатель: два галстука и тонкий лакированный пояс красного цвета. Иду в ванную, умываюсь, мою подмышки.
Зубная паста растворяет вкус поцелуев. Гойко спит на диване, руки раскинуты, пальцы пухлые, как у ребенка. Над диваном повис стойкий запах выкуренных сигарет и грязных носков.
Слышу голос Диего:
— Эй, привет!
Стоит в дверях, улыбается. На нем какая-то желтая махровая пижама.
— Нашел у Гойко под подушкой…
— Спокойной ночи… — Я улыбаюсь.
— Ты что, хочешь спать? — спрашивает он.
— Да.
— Ни за что не поверю, обманщица!
В этом доме, в чужой обстановке мы чувствуем себя неуверенно. Спящий Гойко смущает нас сильнее, чем бодрствующий.
Диего, в утиной пижаме, с вьющимися, как у ангела, волосами, забавно кривит рот:
— Я крепко закрою дверь… и ты не услышишь, как я рыдаю.
Посылаю его ко всем чертям, мне совсем не смешно.
А потом происходит нечто. Гойко выпускает ветры, издавая долгий и протяжный звук, так что получается целая маленькая симфония. Диего делает серьезное лицо, утвердительно кивает:
— Прекрасные стихи, Гойко, поздравляю!
Я прикрываю рот рукой, корчусь от смеха.
Диего тоже смеется. Поворачиваюсь, направляюсь в комнату, где буду спать или проведу бессонную ночь. Резким движением он отрывает меня от пола, как грузчик свернутый ковер, будто всю жизнь этим занимался.
Мы падаем на кровать, рядом с пустой колыбелькой. Диего мгновенно снимает пижаму Гойко, остается в трусах, в красных нелепых трусах, которые в Италии дарят обычно на Новый год. Мне смешно, а он серьезен. У него тонкие ноги и по-детски хрупкий торс.
— Я ужасен?
— Нет, не это…
Анатомия наших тел: моя обмякшая рука свисает с постели; его ухо — темный колодец; совмещение грудных клеток. Перед тем как войти в меня, он останавливается и, как ребенок, спрашивает разрешения:
— Можно?
Корень прорастает в землю. Диего смотрит на меня, смотрит на это чудо — мы слились в одно целое. Он бережно держит мою голову, будто это корона, гладит волосы:
— Теперь ты моя.
И снова эта постель, рядом — пустая колыбелька, где когда-то спал Гойко и где теперь будет спать его сестра.
Голова Диего на моем плече. Мне спокойно и радостно, этот мальчик все-таки сумел подобраться ко мне, будто только и ждал подходящего момента.
Снегопад давно закончился. С улицы доносятся пьяные голоса, английская речь. Мы выглядываем в окно посмотреть, кто это. Диего прижимает меня к себе, я закрываюсь занавеской. Высоченные парни — спортсмены играют в снежки под окном, потом уходят.
Возвращаемся в постель. Эта ночь утекает капля за каплей. Диего трогает мой сосок, маленький и темный, как гвоздик. Как ни странно, никаких угрызений совести. Ни страх, ни смущение, ни сожаление не тревожат меня. Раскаяние — бессильный старик, ему не взобраться на эту ограду.
Диего берет гитару, подогнул ногу, тихо наигрывает что-то.
— Что ты играешь?
— I Wanna Marry You. Наша песня.
Мы, как в бездонный колодец, проваливаемся в глубокий сон. Проснувшись, я ощущаю близость его тела. Он уткнул нос в мои волосы, как будто хочет навсегда запомнить мой запах. За окном бледный зимний рассвет. Еще есть время сжать друг друга в объятиях, слиться в одно целое.
Впервые за эту ночь я чувствую себя усталой. Диего смотрит, как я наклоняюсь, надеваю трусики, ищу свою одежду.
— Я буду скучать по тебе всю жизнь.
Гойко уже приготовил кофе, спустился вниз купить хлеб и молоко. Он заходил в свою комнату и, конечно же, видел несмятую постель. Мы сидим на кухне со шкафчиками цвета голубиного крыла и абажуром, похожим на перевернутый гриб. Гойко смотрит, как мы завтракаем, играет крошками на столе, уставился на мои руки, обхватившие чашку. Не дергает нас, не лезет со своими шутками. А мы — не грустные и не веселые, мы — потерянные.
Беру сумку, открываю кошелек — хочу заплатить Гойко за гостеприимство, за еду, за постель, отдать ему все оставшиеся у меня динары. Он, как всегда, на мели, но решительным жестом отводит мою руку.
Говорю ему, что он должен приехать в Рим, ко мне в гости.
Он смотрит на нас, шумно втягивает носом воздух, пропитанный страданиями:
— Зачем вы уезжаете?
Иду чистить зубы, не могу сдержать слез. Рот, наполненный белой пеной, беспомощно кривится. Стираю остатки макияжа. Возвращаюсь на кухню. Диего играет в йо-йо. Гойко поворачивается, наклоняется над маленькой мойкой, куда поставил грязные чашки. Из-за спины доносится его бормотание:
— Воблы вы вяленые, вот вы кто…
Спустя двадцать четыре года я завтракаю в Сараеве с сыном. В большом зале слишком низкие потолки, дневной свет сюда не проникает, только искусственное неоновое освещение — ресторан в полуподвале гостиницы. Столики вокруг нас не убраны, за некоторыми сидят люди, которые и вчера вечером торчали в холле, многие курят. Пьетро жалуется на табачный дым и запахи из кухни.
— Здесь нет нормальной еды?
— Что значит — нормальной?
— Например, круассанов, мама.
Встаю, иду за маслом для Пьетро. Изучаю содержимое металлических лотков, жалких, как в студенческой столовой. Беру себе йогурт и кусок вишневого пирога. Как ни странно, я хочу есть. Намазываю Пьетро масло на хлеб, говорю ему, что здешний мед очень вкусный. Из кухни к нам идет девушка в белой блузке, черной юбке и коротком переднике официантки. Пьетро изучающе смотрит на нее. Она очень молоденькая, совсем девочка. Правильный овал лица, светлая прозрачная кожа, большие желтоватые глаза. Спрашивает, что мы будем пить. Я заказываю чай, Пьетро — капучино. Девушка приносит мне чай, ставит перед Пьетро большую чашку темного молока, улыбается. Лоб у девушки покрыт небольшими прыщиками. Пьетро смотрит на это пойло без малейшего намека на взбитую пену, пытается что-то сказать, но не знает, как по-английски будет «пена», поэтому останавливается на полуслове. Девушка улыбается ему. Одна секунда, может, поднос был мокрый… и чайник, соскальзывая, падает на пол. Не разбивается, нет, он металлический, но горячий поток льется на светлые джинсы моего сына.