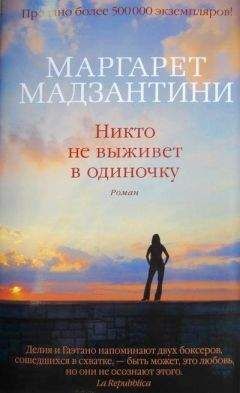Пьетро вскакивает как сумасшедший, ему больно, он прыгает, оттягивает мокрую горячую ткань. Девушка застыла от ужаса, с трудом подбирает английские слова. Говорит она с легким акцентом, извиняется, бормочет, что работает здесь недавно. Пьетро расстегивает джинсы, спускает их до щиколоток, стоит в трусах и дует себе на ляжку. Шипит на итальянском: «Дура, растяпа», но — вот ведь лицемер! — на английском произносит: «Don’t worry… it’s ok».[3]
Девушка продолжает извиняться, нагибается, чтобы поднять чайник. Из кухни тем временем выходит крепкая тетя в фартуке. Короткие кудряшки у нее на голове подпрыгивают от гнева. Она что-то выговаривает девушке, ни одного слова не понятно, но ясно, что ругается. Щеки у девушки горят огнем. Пьетро уже натянул джинсы, трогает расходившуюся фурию за плечо и говорит: «It’s my fault… the girl is very good, very much good…» И добавляет, непонятно к чему: «Indeed».[4]
Женщина уходит, Пьетро садится за стол.
— Very much good — так не говорят.
Он возмущается, что я вечно недовольна, всегда, даже тогда, когда он поступает правильно.
Я улыбаюсь — мне нечего ему возразить.
Смотрю, как он ест, его белые, немного кривые зубы вгрызаются в хлебную мякоть. Смотрю на официантку, которая улыбается и благодарит Пьетро легким поклоном.
Прощаемся в аэропорту. Стоим, обнявшись, у стены. Диего просунул руки мне под пальто, ищет тепло моего тела. Я не возражаю. Все пассажиры уже прошли, мы стоим в пустом зале. А потом я поворачиваюсь и ухожу. Вижу, как он стучит но стеклу, будто птица клювом. Я плакала, и теперь он кричит мне: «Улыбайся, постарайся быть счастливой, даже без меня».
Я окунулась в привычную жизнь
Я окунулась в привычную жизнь, как пловец ныряет с головой в реку, и, когда в Обществе слепых собирали старую одежду, отнесла туда длинную ветровку, которую носила в Сараеве. Вместо нее надела модельное пальто, пригнанное по фигуре. Голоса студентов в университетских коридорах отдавались эхом беззаботной жизни, так непохожей на мою. Фабио ни о чем меня не спрашивал, достаточно было сказать, что я устала, что у меня плохое настроение. Удивительно, но он сам находил причины для моей хандры. Объяснял ее тем, что я много работаю, слишком требовательно к себе отношусь. Мы не занимались любовью, на это не оставалось времени — перед свадьбой нужно было объехать всех родственников, раздать приглашения. Он вел машину, а я смотрела на его лицо, ловила озабоченный взгляд. Наши отношения развивались ровно и спокойно. Красивая, незатейливая история. Проектное бюро, в котором работал Фабио, принадлежало его отцу, и отец постепенно передавал сыну все дела. Они вечно с кем-то конкурировали, боролись за государственные подряды, стремились получить заказы на многофункциональные комплексы, зоны зеленых насаждений, социальные центры. В этом бюро, среди кульманов с шуршащей калькой, мы с Фабио впервые занялись любовью. Я была девственницей, он нес сущий вздор про то, что уже приобрел кое-какой опыт. Верилось с трудом. Сейчас я почти и не вспоминала о том пустом бюро, том приюте, где мы регулярно встречались субботними вечерами. Фабио на правах хозяина первым принимал душ. В ванной комнате в смывном бачке унитаза всегда плавала таблетка ароматизирующего очистителя, она окрашивала воду в небесно-голубой цвет. «Ванная свободна, — говорил он и смотрел, как я иду, голая, — у тебя длинные ноги». Или: «У тебя точеная грудь…» — профессиональный взгляд проектировщика.
Итак, я смотрела на Фабио — его взгляд сосредоточен на дороге, а мысли где-то далеко, на стройплощадке, заняты проблемой прокладки канализации. Мне нравился запах его машины, нравилось шоколадное печенье, которое он покупал, — мы ели его после секса. Я никогда не спрашивала себя, почему нам необходимо подсластить рот, почему он так спешит помыться, смыть со своего члена влагу моего тела. Куда лучше мы чувствовали себя одетыми. Фабио водил меня в дорогие рестораны, помогал снять пальто, выбирал вина. Ему тридцать четыре — взрослый, серьезный мужчина. Мне — почти тридцать, я одевалась как зрелая женщина — по его вкусу. Этот союз предвещал спокойную размеренную жизнь, мы никогда бы не остались без гроша в кармане.
По вечерам мы ходили к священнику. Подготовка к вступлению в брак. Мы оба не были глубоко верующими, но нам нравились эти встречи: особый запах ризницы, дверка, в которую мы стучали, звук шагов священника, его густой голос: «Проходите, ребята, проходите». Священник — крепкий парень, кровь с молоком, затянутый в слишком тесную рясу — еще изучал богословие в Католическом университете. Он говорил с нами как друг, просвещал относительно таинства, которое нас ожидало, — перед тем как задать какой-нибудь нескромный вопрос, всегда извинялся. Там я ощущала себя в безопасности. Чистая скромная комната напоминала мне квартиру Гойко в Сараеве. Я не чувствовала за собой вины. В этом смысле я не имела никаких обязательств в отношении своего будущего мужа. Нож вонзился в мою плоть, но боли не было. Я не испытывала ни малейшего желания поплакать на плече нашего друга-священника. То, что случилось в Сараеве, я запрятала глубоко, это никого, кроме меня, не касалось.
Скучала ли я по Диего? Да, но не собиралась менять свою жизнь. Я сказала ему об этом в одном из долгих ночных телефонных разговоров. Его голос — сплошные рыдания и невозможные просьбы: ему плохо, он постоянно думает обо мне, он не ест, не может фотографировать, не хочет ехать в Бразилию. Умирает. Говорит мне о той сараевской ночи, о нашем «грехопадении».
Я не верю этому голосу, надо остановиться. Мимолетное увлечение, роман без будущего. Он говорит, что его любовь будет длиться вечно. Да, он ненормальный, но я не дала ему времени за меня побороться. Он не мылся несколько дней, чтобы сохранить запах моей кожи. Пытается засмеяться, но смех получается слабый. Спрашивает, все так же ли я пахну. Слезы текут, не могу говорить.
— Замолчи.
— Я жду, — говорит он. — Я здесь.
Он с ума сошел, этот мальчишка.
Ничего не спрашивает меня ни о Фабио, ни о свадьбе. Спрашивает о моих ногах, бедрах, о впадинке за ушами. Он проявил фотопленки из Сараева, те, что со снегом и со спортсменами, которые отдыхают на базе в Моймило, и еще самые последние, со мной. Смеется, говорит, мама спрашивает, кто эта девушка на фоне снега, фотография которой висит у него в комнате, — она там как живая, как будто движется. Шепотом рассказывает, что одну фотографию, самую интимную, он прячет… я стою у окна, голая.
— Когда ты успел ее сделать?
— Ты не заметила.
Он достает ее ночью, смотрит, когда звонит мне по телефону; когда остается один, кладет себе на живот, спит с ней. Может, еще что-то делает… он дал мне это понять.