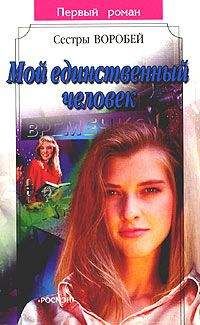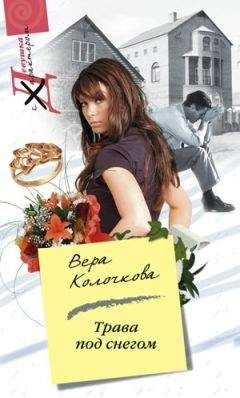— У них ведь каникулы, — сказал он с затаенным раздражением. — Зачем вы…
— Я никого не заставляла, — спокойно ответила директриса. — Они сами. Боюсь, ты даже не представляешь, каким учителем была Анна Станиславовна.
Он не представлял. Он так был занят собой, ему так наскучили за всю его жизнь мамины рассказы о школе, что он давно уже не вслушивался, привычно кивал и отпускал дежурные реплики, вроде: «Что ты говоришь? Неужели? Надо же!»
А это была ее жизнь.
Вот они и шли — свидетели и участники ее настоящей жизни. Дети, и подростки, и совсем взрослые люди — выпускники прошлых лет. Дамы с крашеным перманентом, мужчины в темных костюмах, с цветами и венками, они вдруг узнавали друг друга, махали руками, пробирались поближе и затевали тихонько оживленные разговоры.
— А ты теперь где?.. А у меня уже трое… Егорушку помнишь? Директор фабрики!
Это было нормально, потому что ведь не заслуженного певца или директора универмага хоронили, а простую учительницу средней школы.
Директриса выловила из толпы тощего конопатого паренька:
— Иван! Ты документы сдал?
Взъерошенный Иван поправил вылезающую из брюк рубаху и пробормотал:
— Нет, я передумал. Я в медицинский пойду.
— Здрасте, — вздохнула директорша. — Какой медицинский? Ты же крови боишься!
Иван багрово покраснел:
— Ничего я не боюсь! И потом, я не в хирурги… Я искусственное сердце изобрету, чтобы никто… никто не умирал… вот так вдруг! Это же нечестно! — Слезы брызнули у него из глаз, и он, закусив кулак, отвернулся.
Директриса покачала головой:
— И всегда у нее так. Хороший словесник, ничего не скажу. Но таких романтиков навоспитывает, таких упрямых идеалистов… То она рассказывает про дуэль Пушкина и весь класс ходит с зареванными опухшими мордами; то они у нее на гвоздях спят; то всем классом собираются либо на Дальний Восток, либо в глухую сибирскую деревню — учить детей, поднимать культуру. Спорить с ней было невозможно… Идеалы! Высшие цели! Смысл жизни! А вот как они столкнутся с реальной-то жизнью, да без всякого высшего смысла… — Директриса покрутила головой, как бы снова переживая свои споры с Анной Станиславовной. — Знаешь, как она умерла? Как жила… Она ведь сразу должна была умереть, еще во время приступа. Обширный инфаркт. Попросту говоря, сердце разорвалось. Люди с таким сердцем не живут. Не с чем… А она очнулась в приемном покое и спрашивает, какое нынче число. Ей сказали. Она и говорит: нельзя мне сегодня умирать, послезавтра выпускной вечер, испорчу детям праздник… Подумала, посчитала что-то там про себя и говорит: я, говорит, еще недельку поживу, потерплю…
И тут железобетонная, идейно безупречная директриса, пришедшая в школу по призыву партии прямо из органов, вдруг всхлипнула… Переждала минуту, проморгалась, глубоко вздохнула и запричитала сиплым баском:
— Ну что я буду делать? Где я возьму хорошего словесника? Они мне суют мальчишку после пединститута! Да мои орлы из него за неделю отбивную сделают! У него, видишь ли, тетка в минпросе, да мне-то что! Что мне тетки из министерства! Я и партбилет положу, если что. Мне настоящий учитель нужен. Я надеялась, она возьмет пятый «Б», это ж готовые уголовники, нам тут в район бараки переселили, квартиры им дали… Они же школу по щепкам разносят… Я их хотела Анне Станиславовне дать, пусть лучше на гвоздях спят, чем по подворотням шляться да киоски грабить… Семеро на учете стоят… Экую свинью она мне подложила!
И суровая директриса зарыдала.
Последнюю мамину просьбу Вадим выполнил. Позвонил по телефону, указанному на бумажке, назвал незнакомое имя. И сообщил равнодушной скороговоркой, что умерла Анна Станиславовна Глинская, похороны тогда-то и там-то. И положил трубку.
И забыл об этом. Слишком многое свалилось на него в эти дни. А на кладбище вдруг вспомнил. Потому что узнал. Странное дело. Узнал человека, которого никогда в жизни не видел. И не увидел бы, если бы тогда в самолетике оказалось свободное место.
Уже подходили прощаться, перед тем как совсем закрыть и заколотить гроб. В череде знакомых и незнакомых людей Вадим заметил — отдельно от всех — высокого грузного мужчину, не старого еще, крепкого, но совершенно седого. Он подошел к гробу, опустился на колени и поцеловал сложенные на груди руки.
Тетя Нюта охнула. Она бросилась к незнакомцу, схватила за плечо, заставила встать и потянула прочь от гроба, по тропинке между могил, быстрым шагом, почти бегом, не обращая внимания на то, что поведение ее было далеко от приличия. Они стояли в отдалении, но Вадим видел своими молодыми зоркими глазами, как тоскливо оглядывался мужчина, как крепко держала его за рукав тетя Нюта. Они остановились у ворот кладбища, и тетя Нюта стала что-то говорить ему — со злым покрасневшим лицом. А он стоял, опустив седую голову, и крутил пуговицу пиджака.
Потом Вадим видел его еще раз. Тот сидел на автобусной остановке, на ободранной изрезанной скамейке. Слезы текли по его лицу, он что-то шептал потрескавшимися пересохшими губами и вдруг с силой ударил себя обоими кулаками по голове. Тетя Нюта торопливо повела Вадима к автобусу, который был выделен районо на похороны. Она была очень недовольна, но не могла запретить седому незнакомцу сидеть на общественной скамейке, плакать, раскачиваясь из стороны в сторону, и бить себя так неистово.
Вадим развелся с Зиночкой. Развод прошел на удивление мирно. Главным образом потому, что Зиночка получила все, что хотела, и ей не пришлось прибегать к такому сильному средству, как обнародование страшных тайн семейства Глинских. Хотела она много, но была реалисткой по жизни и понимала, что совсем выгнать Вадима на улицу не удастся, а потому просторную квартиру в престижном районе они разменяли на однокомнатную в районе просто приличном и коммуналку без претензий. Мебель и наиболее ценные предметы быта остались Зиночке, а Вадим очутился в десятиметровой комнатке, со связками книг и пианино. На пианино Зиночка не претендовала, потому что оно в ее квартиру просто не вмещалось.
Прежние хозяева комнаты оставили новому жильцу скрипучую кушетку и колченогий столик. А больше ему ничего и не нужно было.
Тетя Нюта следила за переменами в его жизни, но не вмешивалась. Видимо, Анна Станиславовна ей этого не поручала. А может, и просто запретила. Лишь однажды тетя Нюта пришла в его комнатку, огляделась, повздыхала, достала из огромной хозяйственной сумки тряпки, тазик, старые газеты; вымыла окна и пол, обмела паутину с потолка, повесила шторы и бросила на пол самодельный половичок.
— Готовить ты, конечно, не будешь. Чайник купи. И чашки. Я загляну, так хоть чайку попьем. — Помолчала, вздохнула и пробормотала непонятно к чему: — Может, оно и к лучшему.