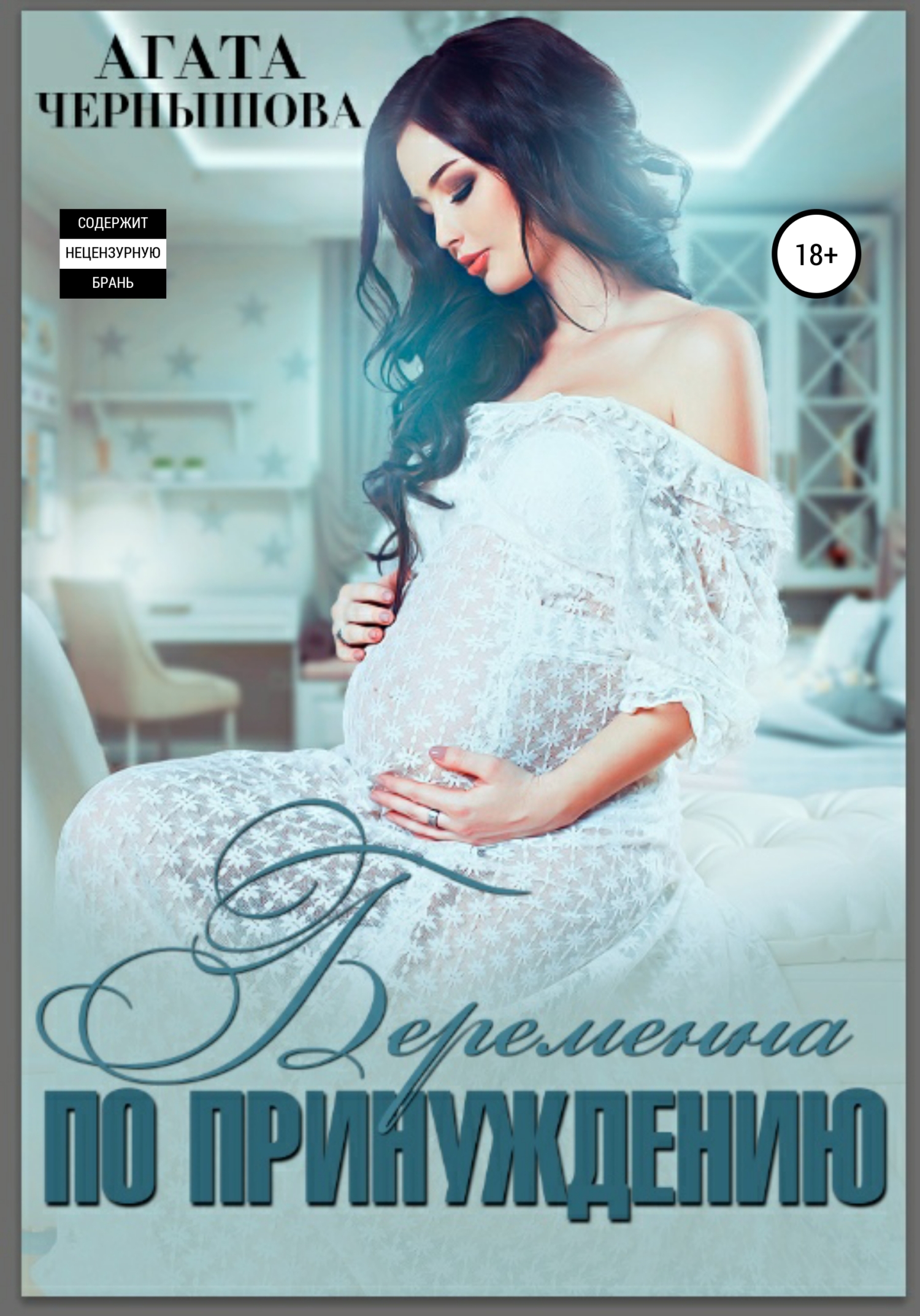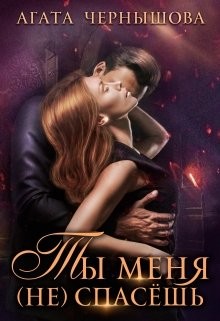будут громы и молнии, которые надо пережить, перетерпеть, стиснув зубы и спрятавшись под одеялом.
– Мама умрёт? – внезапно спросил Пашка, и я обнял его под одеялом так крепко, как смог.
– Нет. Поболеет, и всё пройдёт. Мы не можем ей помочь.
– Почему?
– Потому что, если отец сейчас увидит тебя, ей достанется ещё сильнее.
– Спустись сам, Максим, тебя он не тронет. Ну, пожалуйста! Ты любимчик! – продолжать скулить брат, а я только гладил его по голове и продолжал успокаивать.
Сердце колотилось в горле, голова соображала паршиво, в мозгу билась только одна мысль: пересидеть. Глупо изображать храбрость перед ураганом, если силы не равны.
Если бы речь шла только обо мне, я бы ринулся вниз и сделал так, чтобы отец заткнулся. Я уже тогда умел взывать к его совести, подставляться под удар так, чтобы противник устыдился занесённой руки. Мог принять удар с ледяным спокойствием и презрительно сплюнуть кровь на ковёр.
Но сейчас моя бравада только сильнее разозлит отца. И он сорвётся на Пашке. Конечно, не убьёт, но ремнём постегает знатно.
Много позже я понял, что когда мужчине больно, в нём просыпается Зверь, требующий крови и жертв. И не успокоится до тех пор, пока не иссякнут силы и не наступит апатия.
Судя по крикам, речь шла о проступке матери. И всё это имело отношение к Пашке.
Он всегда был внешне копией отца, поэтому тот его баловал и прощал те шалости, за которые с меня драл три шкуры. Впрочем, что касалось внимания, я получал его сполна.
Отец бы скуп на эмоции, но словоохотлив, если дело касалось рабочих моментов. Он скрупулёзно, не теряя терпения, с тринадцати моих лет приучал к делам и рассказывал, иногда с применением силовых воздействий, то, что я по его мнению должен был знать о бизнесе.
Улавливал я быстро, поэтому доставалось мне нечасто. А когда стукнуло пятнадцать, начал в ответ показывать зубы, за что однажды был бит нещадно, но зато больше отец на меня руку не поднимал, а только ухмылялся. Мол, придёт, щенок, время, вспомнишь отца!
Чаще всего он был прав. Не доверяй дальним, а близким ещё больше не доверяй.
– Так можно в дурку загреметь, – буркнул я как-то.
– Ну доверяй, на теплотрассе места всем хватит. Надеюсь, случай с твоей матерью тебя чему-то научил?! Учись на моих ошибках, сын! – мрачно говорил он и смурнел так, что приходилось ретироваться. В этот момент отцу надо было побыть одному.
Я его уважал и боялся. Бояться перестал лишь к двадцати годам, когда заматерел и почувствовал свою силу в полной мере, а уважать не перестал. И любить.
Мать я тоже любил, но после той ночи она не услышала от меня лишнего слова. И все её оправдания звучали издёвкой:
– Я собиралась сказать! Не говорила только из-за Паши! У них были такие чудесные отношения! Ребёнок его обожал! Отец не тот, кто родил, а кто воспитал!
– Ага, а я думал, этот юродивый называется Аленем. Не бреши, пожалуйста! Отец прав, тебе лучше держаться от брата подальше! Ты и его сделаешь лживым и изворотливым!
– Это лучше, чем как ты: жестокий и бессердечный! – кричала она и давала мне пощёчину.
Я пожимал плечами и молча уходил. Подумаешь, переживу!
Мама пыталась просить прощения, я махал рукой и оставлял ей денег. Ей всегда не хватало содержания отца.
После того как он её отселил и лишил права видеться с Пашкой, мама пустилась во все тяжкие. Разве что на наркоту не подсела! Так продолжалось полгода, а потом она резко успокоилась. Отец пригрозил, что урежет втрое её содержание.
– Я не прощу ему, что оторвал сыновей от матери. Паша, наверное, скучает. Неужели ты не понимаешь, что нам надо увидеться? Привези его, умоляю!
Я отрицательно мотал головой и уходил. Предавать отца я не собирался. Да и Пашке это ни к чему, только душу травить.
Вырастет – сам решит, общаться ли ему с матерью, которая своей ложью чуть не лишила их обоих сытой, безбедной жизни и миллиона возможностей, которые предоставлял отец.
Прошло больше десяти лет, а я помню тот разговор на следующее утро:
– Мать и брат будут теперь жить отдельно.
Отец выглядел ужасно, будто пробухал неделю. Глаза ввалились, лицо помятое, галстук сидит криво.
– Нет, – тихо возразил я, сжав кулаки. – Мать пусть уходит, это ваши дела, а брат останется.
– Он тебе не брат. Только по матери, этой потаскухе. Гены ещё те! Мразота, словом! И пусть скажет спасибо, что я не заплатил за удовольствие лицезреть её повешенной на суку! Неужели ты полагаешь, что я смогу спокойно видеть его… лицо каждый день?
– И не надо. Отправь учиться. У нас есть деньги.
– Я не для того их зарабатывал, чтобы спускать на ублюдка! Пусть его папаша, если найдётся, и оплачивает хотелки!
В эти минуты мне было ещё хуже, чем отцу. Чувство ненависти к матери и её поступку заполонили меня без остатка, если бы сейчас я стал свидетелем её гибели, наверное, и пальцем бы не пошевелил, чтобы помочь.
Да, она моя мать. Но должна ответить за боль семьи.
– Если ты выгонишь брата, я уйду с ними, – поджав губы, произнёс я. – И не думай, что мы будем жить на твои подачки. Сам меня натаскивал, я научу мать, где найти адвоката, который отсудит у тебя приличное содержание. И этот дом. Не сомневайся. Но я предлагаю тебе оставить Пашку и выгнать мать. Отправь брата учиться.
В итоге меня избили. Заперли на две неделе в комнате, обрубили все связи с внешним миром. А когда отец остыл, то попросил прощения. Впервые в жизни. И в последний раз.
Брата я отстоял. Через полгода он отправился в закрытый пансионат для детей богачей. А