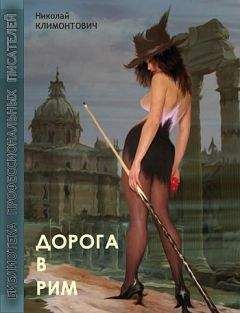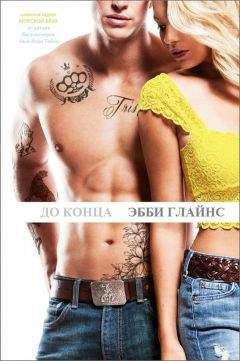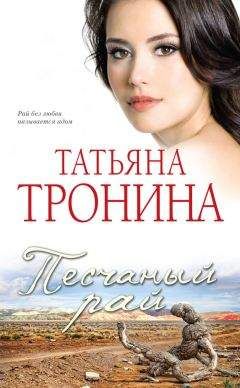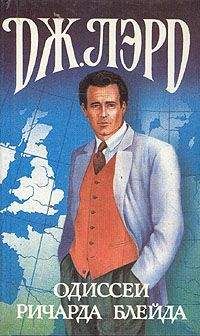Сделать я мог это только одним способом — убедив самого себя, что не могу без нее жить, это не всегда просто, но в данном случае все сходилось как раз наилучшим образом — одно к одному.
Здесь важно, что при всей ограниченности средств — по западным меркам, конечно, — она чувствовала себя, как в те годы и любая иностранка в Москве, более или менее — феей, ведь она располагала знанием высшего порядка, какого у всех нас, как персонажей смертных, быть не могло, возможностью общения с иными силами и иными мирами — скажем, способностью проникновения в западные посольства, за что любого на месте поразил бы гром, связью с заграницей по международному телефону, за что неосторожного тоже могли покарать нездешние силы, наконец, обладая волшебными, вполне бумажного вида конвертируемыми финскими марками, которые мне и держать-то в руках в темноте было опасно, она могла войти в валютный магазин или валютный бар непринужденно, как я в аптеку. По-видимому, на каком-то этапе отношений каждой даме свойственно стремиться быть для любовника волшебницей, щедро и лукаво преподнося свои дары, вот только в век тотальной демистификации секса для этого все меньше возможностей, каково ж было обрести фееричность для такой простоватой финской девушки, причем очень дешево, всего как приложение к советской въездной визе.
Здесь есть, конечно, тонкость, феи помогают лишь сказочным героям, пусть и дуракам, но как раз в те годы этот вопрос для меня не стоял на повестке дня: я был молодым непечатающимся писателем, что в российском климате и пространстве являлось испытанным перифразом героичности, тем более ей внятным, что была она литературоведом-русистом. И еще одно: часто ночуя у нее в общежитии, посещая вечеринки, что устраивала ее землячка и коллега, рыжая жердь с лицом реликтового пресмыкающегося, — на этом фоне моя подруга была верхом женского совершенства, — я и впрямь подвергался известному риску, не только нарушая довольно строгий режим, но нарушая его путем контакта с иностранкой, и эти два порознь простительных греха, перемножавшись, и впрямь могли привести к неприятностям, скажем — меня могли запросто вышибить из редакции журнальчика, где я тогда подвизался, — и подчас я ненароком понижал голос, ища глазами неведомые микрофоны, — и это тоже бесспорно работало на мой романтический имидж, коли ради возлюбленной я иду на постоянный риск. Сие делало наши ночи только страстнее.
С другой стороны, и я сам, поначалу ничего особенного в ней не обнаружив, мало-помалу стал самым искренним образом убеждаться, что эта обыкновенная девушка, выпивоха и хохотушка, правда, весьма прилежная стажерка, все множившая карточки с наблюдениями над языком и стилем своего деревенского объекта, скрывает в себе и впрямь что-то необычное. Роль здесь играли прежде другого мелочи, ее акцент, и нежданная наивность в некоторых советских очевидных реалиях, и мелкие вещицы, до тех пор невиданные мною, и приемы макияжа, и вовсе уж диковинные тампаксы, которые в случае крайней нужды можно вытащить изнутри, потянув за веревочку. Конечно, именно пустяки волнуют влюбленного — даже если его избранница простая смертная, но тут было другое, ведь я имел дело — с потусторонним. Теперь всякий раз, когда она открывала мне навстречу свое щедрое лоно, я испытывал немалый трепет, не столько эротического, сколько мистического порядка, как если бы, веруя, приближался к Иерусалимскому храму. Только любящий экстатически воспринимает женщину, как если бы именно из ее чрева он появился на свет Божий; я же, проникая в нее, лишь предчувствовал, что могу таким способом нащупать путь — в неведомое и запредельное, не назад — вперед; что ж тут странного — ведь чем дальше, тем вернее слияние с ней сулило не проникновение лишь обратно в лоно, но попадание прямо — в мир иной… Прошло месяца два, о браке не было ни слова, но теперь, всякое утро, если я не ночевал у нее, я получал телефонный звонок, а через три дня на четвертый — какое-нибудь свидетельство ее внимания, какие по тому времени могли вывалиться только из феиного рукава: скажем, посмертный двухтомник Шукшина, мне в общем-то ненужный, но купленный за валюту в ихнем волшебном магазине, или великолепный альбом Миро — о Миро я и не слыхал прежде, — вывезенный не иначе как из книжного стокмана, что неподалеку от хельсинкского вокзала, — впрочем, о существовании такого заведения я узнал лишь много лет спустя.
Самые трогательные вечера мы наладились проводить в дальнем углу кафе «Националь», которое в разное время сыграло важную роль в жизни определенной части московских обитателей разных поколений — и в моей когда-то. Ни она, ни я богаты не были, но ведь и «Националь» в те годы был дешев, червонец — ужин на двоих, на двадцать же рублей можно было наесться икрой под шампанское. Но для проникновения внутрь кафе, если на улице стояла очередь у дверей, а стояла она всегда, даже по понедельникам, приходилось применять особую тактику: подружка моя отправлялась через гостиничный вход с финляндским паспортом наперевес, объясняла швейцару, что она — переводчица, ведь гостиничной карточки и у нее не было, сквозила по второму этажу мимо ресторанного зала с балалаечниками и мимо валютного бара, спускалась по другой лестнице в холл, а там уж обрабатывала другого привратника — но не с улицы, а изнутри; наконец швейцар приоткрывал уличную дверь, в узкую щель, под его плечом, на котором некогда красовались погоны, смененные ныне на золотые лампасы на штанах, я просачивался внутрь меж пронырливых проституток и бодрых молодых людей, у которых, увы, не было волшебной помощницы, а уж найти место в зале можно было всегда — в кафе осуществлялась негласная фильтрация клиентов, хоть свободных мест было достаточно и по субботам, но посторонний, не ведающий здешних порядков, мог очутиться в «Национале» только чудом.
Счастливое совместное преодоление препятствий сближает больше, чем еда, какой нам всегда не хватало в общежитии, чем армянский коньяк, который мы, смакуя, отглатывали, глядя в глаза друг другу. И, может быть, именно такие минуты и оседают накрепко в памяти, тогда как все остальное — лишь приблизительная реконструкция… Впрочем, эта вечерняя идиллия всегда омрачалась, делалась хрупкой, едва мы вспоминали, что не знаем, сможем ли быть вместе этой ночью. После одиннадцати вечера ее зона «В» особенно тщательно охранялась, привратники, как ни странно, были неподкупны, но кое-кто, узнавая нас, ленился спрашивать у меня пропуск, принимая за постояльца, а иногда удавалось попасть к ней в постель — черной лестницей, ведущей из подвала, куда по неряшливости забыли запереть дверь; хуже всего бывало как раз в конце недели, когда на вахту заступали члены оперативного студенческого отряда, комсомольские Ломоносовы, со сладострастием бросающиеся на жертву стаей. Неумолимы они были, как сам железный Феликс, благо, лишь считались добровольными помощниками милиции, являясь на деле, конечно же, подручными КГБ. Их-то приходилось избегать пуще всего, ведь по молодому неутоленному рвению они могли нас выследить и установить за ее комнатой особое наблюдение, — и было в этой неопределенности тоже что-то сладкое — от прощания, и все придавало нашей нежности щемящий привкус неверности и разлуки.