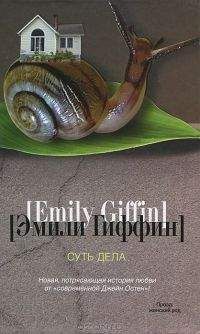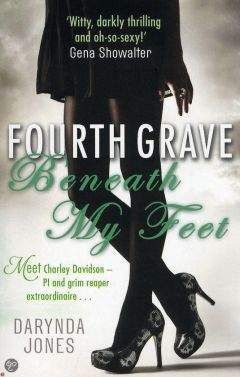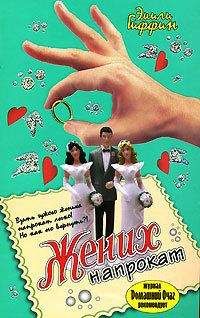Разумеется, я доношу эти рассуждения в смягченном варианте до Эйприл, которая, ясное дело, одержима эмоциональным (и потенциально юридическим и финансовым) состоянием Роми и делится со мной всеми подробностями — близкие подруги всегда делятся подробностями о других близких подругах. Я изо всех сил стараюсь сочувствовать, но в один прекрасный день, встретившись с Эйприл за ленчем в маленьком бистро в Уэствуде, понимаю, что теряю терпение, когда она начинает возмущаться.
— Вэлери Андерсон по-прежнему отказывается разговаривать с Роми, — говорит она через несколько секунд после появления нашего заказа.
Я смотрю на свой салат, который полит заправкой из голубого сыра, и до меня доходит, что в таком случае нет смысла брать зеленый салат и уж, конечно, заказывать заправку отдельно.
Эйприл продолжаете нарастающим пылом:
— Роми ездила в больницу с рисунками Грейсона. Еще она послала Вэлери несколько писем по электронной почте и оставила пару сообщений.
— И?..
— И ничего в ответ. Абсолютно ледяное молчание.
Я мычу в ответ что-то нечленораздельное, тыча вилкой в гренок.
Эйприл деликатно отведывает свой салат, сбрызнутый бальзамическим уксусом, затем сопровождает его хорошим глотком шардонне. Жидкие ленчи — любимцы Эйприл, салат — запоздалая мысль.
— По-твоему, это не невежливо? — заканчивает она.
— Невежливо?
— Да, невежливо, — подчеркивает Эйприл.
Я отвечаю, осторожно подбирая слова:
— Не знаю. Думаю, да... Но в то же время...
Эйприл рассеянно перемещает с одного плеча на другое свои длинные, собранные в хвост волосы. Я всегда считала, что ее внешний вид не соответствует ее сущности. Ее кудрявые рыжевато-каштановые волосы в сочетании с россыпью веснушек, вздернутым носиком и спортивной фигурой создают образ спокойной, много занимавшейся спортом на открытом воздухе женщины — бывшего игрока в хоккей на траве, превратившейся в плывущую по течению маму, игрока в европейский футбол. Тогда как на самом деле она на редкость зажатая домоседка: ее представление о походе — это отель четыре звезды (вместо пяти), а поездки на лыжные курорты связаны у нее с шубами и фондю.
— Но в то же время — что? — спрашивает она, заставляя меня облечь в слова мысль, которую лучше было бы оставить в виде намека.
— Но ее сын в больнице, — резко говорю я.
— Я это знаю, — с недоумением смотрит на меня Эйприл.
— Ну и?.. — Я делаю жест, означающий: «Ну и что ты хочешь этим сказать?»
— Хорошо, — соглашается Эйприл. — Я не имею в виду, что Вэлери должна набиваться Роми в подруги и все такое... но неужели так трудно позвонить в ответ?
— Полагаю, поступить так следовало бы... во всяком случае, это было бы вежливо, — нерешительно начинаю я. — Но, по-моему, в данный момент она меньше всего думает о Роми. И мне кажется, мы очень слабо представляем себе, что сейчас переживает эта женщина.
Эйприл закатывает глаза.
— У нас у всех болели дети, — говорит она. — Мы все прошли через «скорую помощь». И знаем, что такое страх.
— Что ты такое говоришь?! — поражаюсь я. — Ее ребенок лежит в больнице много дней. У него ожоги лица третьей степени. Его правая рука — рука, которой он писал и играл в мяч, — полностью покалечена. Ему уже сделали операцию и сделают еще не одну. И все равно она может не восстановиться полностью. А шрамы? На всю оставшуюся жизнь!..
Я останавливаюсь на этом, но не могу не сделать примечания:
— Ты знаешь, что это такое? Тебе знакома тревога подобного рода? Неужели?
Наконец-то Эйприл выглядит притихшей.
— У него на всю жизнь останутся шрамы? — переспрашивает она.
— Да. Вероятно.
— Я не знала...
— Ну конечно. Ведь он пострадал от ожогов. А ты что думала?
— Я не подозревала, что все так серьезно. Ожоги. Ты мне не говорила.
— Говорила, в той или иной степени, — не соглашаюсь, я, вспоминая, сколько раз в расплывчатой форме сообщала Эйприл последние сведения.
— Но я слышала, как Ник рассказывал, что может пересадить кожу, и это будет... незаметно. Ожоговая хирургия дошла до таких высот!..
— Не до таких высот... в смысле да, за последние годы постигнут огромный прогресс... и — да, ты, наверное, слышала, как он рассказывал о своих больших хирургических играх — какие у него пересадки, даже швов не видно... Но тем не менее. При всей квалификации Ника, он не настолько опытен. Кожа у этого мальчика местами очень сильно обожжена. Сгорела. Ее нет.
Я прикусываю язык, чтобы не напоминать для контраста, как в прошлом году Оливия упала с крыльца и отбила часть молочного зуба, на несколько недель ввергнув Эйприл в слезы — та оплакивала количество испорченных фотографий, которые будут сделаны, пока не вырастет постоянный зуб, и до отвращения корректировала на компьютере «серый, потерявший естественный цвет мертвый зуб». Косметический дефект, если говорить о классификации ранения.
— Я не знала, — повторяет она.
— Что ж, — мягко, спокойно произношу я, — теперь знаешь. И возможно, захочешь передать Роми, что, вероятно... вероятно, этой женщине нужно побыть одной... и, Господи, она же в довершение всего мать-одиночка. Ты можешь представить, как пережила бы такое потрясение без Роба?
— Нет, не могу, — признается Эйприл.
Она поджимает губы и смотрит в окно, рядом с которым мы сидим, на идущую по улице женщину на последних месяцах беременности. Я прослеживаю ее взгляд и испытываю укол зависти, как всегда при виде вот-вот готовой родить женщины. На одно мгновение я отвлекаюсь на мысль, будет ли у нас с Ником третий ребенок.
Поворачиваясь наконец к подруге, я говорю:
— Мне думается, мы не должны осуждать эту женщину, пока не окажемся на ее месте. И уж конечно, не следует ее поносить...
— Хорошо, хорошо, я тебя слышу, — торопится согласиться Эйприл.
Я выдавливаю улыбку.
— Ты не обиделась?
— Разумеется, нет, — говорит Эйприл, прикладывая к губам белую матерчатую салфетку.
Я делаю большой глоток кофе, наблюдая за подругой, и спрашиваю себя, верю ли я ей.
Проходят дни, и Чарли постепенно начинает понимать, почему он находится в больнице. Он знает, что в доме его друга Грейсона произошел несчастный случай и он получил ожоги лица и ладони. Он знает, что ему сделали операцию на ладони и скоро сделают на лице. Ему известно, что коже требуется время на заживление, а затем длительное лечение, но со временем он вернется в свою кровать, в свою школу, к своим друзьям. Все это говорят ему — медсестры, психиатры, специалисты по трудотерапии и физиотерапевты, хирург, которого он называет доктором Ником, его дядя и бабушка. Но чаще всех остальных это внушает ему его мать, которая постоянно рядом с ним, днем и ночью. Он видел свое лицо в зеркале и во время перевязки разглядывал ладонь с тревогой, страхом или обыкновенным любопытством — в зависимости от настроения. Он чувствовал, как с помощью доз морфина и других обезболивающих спадает и уходит боль в ранах, и плакал от бессилия во время лечебных процедур.