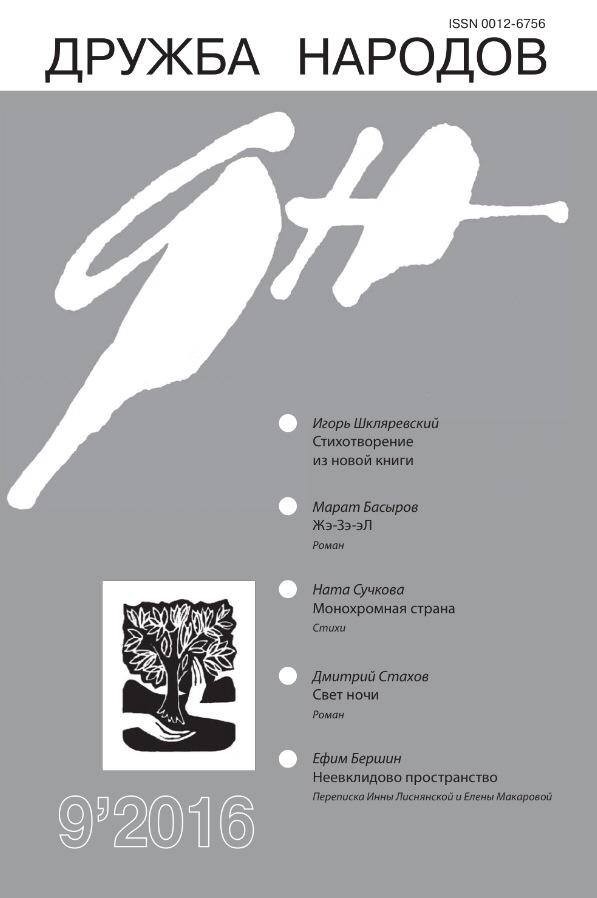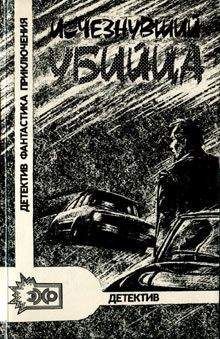и короткий тесный пиджачок. Они стоят в круге света от висящего на козырьке над входом в кафе фонаря. Свет от фонаря — неживой, голубоватый, мерцающий. Я прохожу мимо них, они смотрят на меня.
— Здравствуйте, — говорит девушка. — Я Лиза. Лиза Бадовская.
— Простите? А, да-да, я о вас слышал, — остановившись, я изображаю задумчивость, поддерживая левой рукой локоть правой, пальцами правой руки обхватываю подбородок. — Вы хотите прийти на консультацию?
— Я? — Лиза Бадовская хихикает.
Ее спутник цыкает слюной сквозь зубы и тоже хихикает.
— Нет, мне консультация не нужна, — говорит Бадовская, у нее темный взгляд, ее глаза маленькие, недобрые, в них пляшут крохотные золотые искорки. — Вас небось проинструктировали. В администрации. Рассказали, какой Лебеженинов был педофил. Что его в Москве якобы держали под следствием из-за беспорядков во время митинга, что он получал деньги из-за границы, что специально приехал к нам, чтобы устроить здесь переворот…
— Меня из-за всей этой бодяги уволили, — перебивает Бадовскую ее спутник. — А я хотел в юридический поступать. Ну, не сразу, послужил бы как положено пять лет. Мне говорят — ты с педофилами и растратчиками якшаешься. То есть — якшался. Они к тебе из могилы приходят. Пиши-ка ты по собственному. По семейным обстоятельствам…
— А! — говорю я. — Вас зовут…
— Это — Боханов, Боханов Иннокентий Мелетьевич. Да, так его зовут, но можно просто — Кеша, — говорит Лиза Бадовская. — Кеша у нас очень активный. Он предлагал сделать эту, как ее…
— Эксгумацию, — подсказывает Иннокентий Мелетьевич, вытирая уголки губ, — это называется эксгумация.
— Да, ее, гумацию всех последних захоронений.
— Зачем? — удивляюсь я.
— А чтобы понять — не эпидемия ли это? Наша, местная. Ходят слухи, что еще какие-то мертвяки ходят, — гордо дает пояснения Боханов.
— Но ведь кроме Лебеженинова никто не… не вставал из могил, — говорю я и пытаюсь понять, что такое этот Боханов, не издевается ли он? — Да и Лебеженинов…
— А другие тихо, ночью, вдоль забора, они по ларькам не ходят, — перебивает меня Боханов. — Их могут прятать родственники. Друзья, знакомые. Вот Сиганову хоронили на прошлой неделе. Скоропостижно умерла. Инфаркт. А я уверен — она тоже где-то ходит. Чтобы Сиганова умерла! Да такого быть не может! Я еще совсем пацаном был, мы к ней ходили опыт получать половой. Она такая вежливая была — мол, присаживайтесь, молодые люди, чай-кофе, может — воды?
Бадовская смеется, закрывая рот ладошкой. На внешней стороне ее ладони узорная татуировка, цветы, меж которых извивается тело змеи.
— Да что Сиганова! — Боханов придвигается ко мне. — Вот мой дед. Он недавно умер, еще и полгода не прошло. Старый был, очень старый, моего отца родил, когда с должности начальника лагеря освободился, а еще командовал строительством железной дороги. На Ямал. Или на Таймыр. Я точно не помню. Вот он говорил — пока кости в тундре белеют, я никуда не уйду. Вы, говорил, меня похороните, а я буду по улицам шастать, вас щипать и толкать, чтобы вы, суки, про кости помнили, и я вот уверен — он шастает. Он эти кости там оставил, а считал, что мы виноваты, потомки, так сказать. И мы его, может, просто не видим. А он тут. — Боханов указывает в сгущающиеся сумерки. — Где-то рядом. Вместе со своим начальником. И с начальником начальника.
— Они тебя охраняют, — говорит Бадовская.
— Ну, у них это херово выходит. Если б мой дед меня охранял, он бы нашего начальника ОВД за яйца бы его — цап!
— Еще не вечер, — говорит Бадовская. — Он, знаешь, еще может все повернуть. Он такое может повернуть…
Оба они становятся серьезными. От прежней веселости, смешков не осталось и следа. Они смотрят в темноту с задумчивостью, словно оттуда придет ответ, что может повернуть покойный дед Боханова, что и куда. Я тоже смотрю в темноту, и мне кажется, что за ближайшими кустами кто-то есть, тот же таинственный, что сидел в овражке у речки.
— Тут пиво хорошее, — говорит Бадовская. — Они сами варят. У них на заднем дворе пивоварня. Поворотник поставил. Его пиво, его сосиски.
— Они вообще все уже прихватили. — Боханов изучающе смотрит на меня. — Продыху от них нет…
…В кафе свободен только один, заставленный грязной посудой столик. К нему подходит официантка и начинает собирать посуду на поднос. Я подхожу, официантка искоса смотрит на меня.
— Что вам принести? — спрашивает она. — Сосиски? Есть с горошком, есть с рисом.
— С горошком. Пиво. Водку.
Официантка понуро идет прочь. На пятках высоких полосатых носков — дырки. Худые ноги. Я сажусь за стол, поправляю держатель для солонки и перечницы. На столе разводы от тряпки. Cтол качается: из-под одной из ножек выскочила подложенная салфетка. Я нагибаюсь, собираясь запихнуть салфетку на место, и узнаю ботинки подошедшего — на левом похожая на маленькую комету царапина, но их обладатель успел подпортить еще и правый — рант на мыске сбит, словно хозяин ботинок со всей силы вмазал ногой по камню. Я распрямляюсь: мятый темно-серый костюм, черная рубашка с глубоко расстегнутым воротом, бледное, бесстрастное лицо, прямой нос, большие светло-серые глаза, очки в тонкой оправе.
— Найдется место? — голос такой же серый, человек-пустота, серая неприметность.
Он садится, отодвигаемый стул отвратительно скребет ножками по полу. Я пытаюсь поймать его взгляд, мне хочется сказать, что мы с ним почти знакомы. Или лучше промолчать? Лучше подождать — что скажет он? Но будет ли вообще он что-либо говорить? Пока я размышляю, официантка ставит передо мной тарелку, кружку, графинчик, рюмку. Две сосиски, горошек, клочковатая пена, следы пальцев на стекле графинчика. Я собираюсь сказать официантке, что она забыла принести хлеб и вилку с ножом, но она уже идет прочь. Я беру кружку, отпиваю глоток и чувствую, что мне в лицо дует легкий ветерок. Такой же, что дул в машине Извековича, с тем же