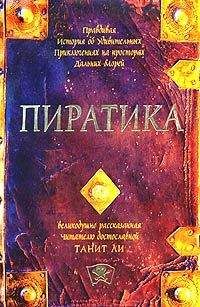И прошу предупредить Мэри, что я немного опоздаю.
Последний раз я была в полиции, когда в старших классах у меня украли велосипед. Меня приводила мама подавать заявление. Помню еще, что тогда же в участок доставили отца одной из самых популярных девочек в школе — растрепанного и воняющего спиртным в четыре часа дня. Он был владельцем местной страховой компании, их семья одна из немногих в городе могла позволить себе стационарный бассейн. Тогда я впервые узнала, что впечатление о людях может быть обманчиво.
Дежурная за маленьким окошком носит причудливую прическу и серьгу в носу — может, именно поэтому она даже не моргнула, когда я подошла.
— Чем могу вам помочь?
Разве можно просто прийти и сказать: «Мне кажется, что мой приятель — нацист!» — и при этом не показаться сумасшедшей?
— Я хотела бы поговорить с детективом, — отвечаю я.
— О чем?
— Это сложный вопрос.
Она прищуривается.
— А вы попробуйте.
— Я располагаю информацией о совершённом преступлении.
Она задумывается, как будто взвешивает, говорю ли я правду. Потом записывает мою фамилию.
— Присядьте.
Вдоль стены стоит ряд стульев, но я не сажусь, а начинаю читать имена неплательщиков алиментов, которыми пестрит огромная информационная доска «Внимание: розыск!». Потом изучаю объявление о проведении занятия по пожарной безопасности.
— Мисс Зингер?
Я оборачиваюсь и вижу высокого, седого коротко стриженного мужчину с кожей цвета кофе латте, который варит Рокко. На ремне у него кобура, на шее висит жетон.
— Я детектив Уикс, — представляется он, всего лишь на секунду дольше, чем следует, задержав взгляд на моем лице. — Пройдемте в мой кабинет.
Он набирает код, открывает дверь и ведет меня по узкому коридору в комнату переговоров.
— Присаживайтесь. Вам принести кофе?
— Спасибо. Я готова к разговору, — говорю я.
И хотя прекрасно понимаю, что никто меня допрашивать не будет, когда он закрывает за моей спиной дверь, я чувствую себя в ловушке.
Шею заливает краска смущения, меня бросает в пот. А если детектив решит, что я лгу? А если начнет задавать слишком много вопросов? Может быть, не стоило приходить? Я ничего доподлинно не знаю о прошлом Джозефа. Даже если он говорит правду, что можно сделать по прошествии семидесяти лет?
И тем не менее…
Когда мою бабушку забирали нацисты, сколько простых немцев закрывали на это глаза, придумывая для себя такие же отговорки?
— Ну-с, — протяжно говорит детектив Уикс, — о чем речь?
Я собираюсь с духом.
— Мой знакомый, вероятно, нацист.
Детектив поджимает губы.
— Неонацист?
— Нет, со времен Второй мировой войны.
— Сколько же ему лет? — удивляется Уикс.
— Не знаю точно. За девяносто. Возраст подходящий, если посчитать.
— И почему вы решили, что он нацист?
— Он показал мне свою фотографию в форме.
— Вы уверены, что фотография подлинная?
— Вы полагаете, что я все придумываю, — говорю я, удивляясь тому, что смотрю детективу прямо в глаза. — Но зачем мне это?
— А зачем сотням сумасшедших звонить по телефонам, указанным в новостях, с сообщением о пропавшем ребенке? — Уикс пожимает плечами. — Я не силен в разрешении загадок человеческой психики.
Я чувствую обжигающую боль, шрам мой горит.
— Я говорю правду.
Я только умалчиваю о том, что этот человек просил меня убить его. И что я решила убедить его, что не исключаю такую возможность.
Уикс склоняет голову набок, и я вижу, что у него уже сложилось мнение — не о Джозефе, а обо мне. Понятно, что я изо всех сил пытаюсь скрыть свое лицо, — должно быть, он гадает, что еще я пытаюсь утаить.
— Что-нибудь в поведении этого человека указывает на то, что он действительно принимал участие в военных преступлениях?
— У него нет на лбу свастики, если вы об этом, — отвечаю я. — Но у него немецкий акцент. И раньше он преподавал немецкий в старших классах.
— Подождите… Вы говорите о Джозефе Вебере? — спрашивает Уикс. — Мы посещаем с ним одну церковь. Он поет в церковном хоре. В прошлом году он возглавлял парад на День независимости как «Горожанин года». Я никогда не видел, чтобы этот человек хоть муху обидел.
— Может быть, насекомых он любит больше евреев, — решительно заявляю я.
Уикс откидывается на спинку кресла.
— Мисс Зингер, мистер Вебер вас чем-то обидел?
— Да, — отвечаю я. — Он сказал мне, что он нацист.
— Я имею в виду ссору. Недопонимание. Может быть, он даже бесцеремонно прошелся по поводу… вашей внешности. Словом, что-то, что могло бы повлечь за собой… подобное обвинение.
— Мы друзья. Именно потому он и рассказал мне об этом.
— Возможно, мисс Зингер. Но мы обычно не арестовываем людей за предполагаемые преступления, не имея весомых доказательств того, что именно они их совершили. Да, мужчина говорит с немецким акцентом, но он уже старик. И я не видел с его стороны ни намека на расовое или религиозное предубеждение.
— И что это доказывает? Я слышала, что часто серийные убийцы в глазах окружающих — совершенно очаровательные люди, именно поэтому никто и подумать не может, что они серийные убийцы. Вы для себя решили, что я сумасшедшая? Вы даже не собираетесь расследовать то, что он совершил?
— А что он совершил?
Я опускаю взгляд на стол.
— Точно не знаю. Именно по этой причине я к вам и пришла. Думала, вы поможете мне выяснить.
Уикс долго смотрит на меня.
— Оставьте ваши координаты, мисс Зингер, — предлагает он, протягивая мне лист бумаги и карандаш. — Я наведу справки, и мы с вами свяжемся.
Я небрежно пишу свои данные. Кто поверит мне, Сейдж Зингер, изуродованному призраку, который выходит только по ночам? Особенно если Джозеф двадцать два года зарабатывал себе репутацию уважаемого члена общества Уэстербрука и филантропа?
Я протягиваю бумагу детективу Уиксу.
— Знаю, вы не станете мне звонить, — холодно констатирую я. — И выбросите этот лист бумаги в мусорную корзину, как только я скроюсь за дверью. Но я пришла в полицию не для того, чтобы утверждать, что видела на своем заднем дворе НЛО. Холокост был на самом деле. И нацисты — это не сказка. Они же не могли испариться, когда война закончилась.
— А закончилась она почти семьдесят лет назад, — замечает детектив Уикс.
— Я думала, для убийства нет срока давности, — отвечаю я и выхожу из кабинета.
Бабуля подает чай в стакане. Сколько себя помню, она говорила, что только так правильно его пить: так подавали чай ее родители, когда она была еще маленькая. Я сижу за столом, смотрю, как она, опираясь на палку, хлопочет в кухне, ставит чайник, выкладывает на блюде ругелаши, крошечные рулетики, и мне приходит в голову мысль, что, несмотря на то, что она легко и открыто говорит о своем детстве, о жизни с моим дедом, в ее повествовании, словно оно подверглось цензуре, есть пробел в несколько лет — жизнь как будто сошла с накатанных рельс.