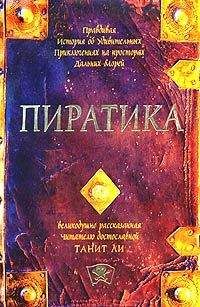— А почему вы с дедушкой не открыли вместо книжного магазина булочную?
Она смеется.
— Твой дедушка и воды себе не мог вскипятить, не говоря уже о том, чтобы сварить бублик. Чтобы печь хлеб, нужно обладать талантом. Каким обладал мой отец. Каким обладаешь ты.
— Ты почти никогда не рассказываешь о своих родителях, — замечаю я.
Рука, в которой она держит нож, едва заметно подрагивает, настолько незаметно, что если бы я наблюдала не так внимательно, то ни за что бы не заметила.
— А что рассказывать? — пожимает она плечами. — Мама была домохозяйкой, а отец пекарем в Лодзи. Ты об этом знаешь.
— А что с ними случилось, бабуля?
— Они давным-давно умерли, — отвечает она, закрывая тему. Протягивает мне кусок хлеба без масла, потому что, если делаешь по-настоящему великолепную халу, масло не нужно. — Посмотри на эту халу. Могла бы еще подняться. Папа говорил, что хороший хлеб можно съесть завтра. А плохой следует есть прямо сейчас.
Я хватаю ее за руку. Кожа похожа на пергамент, косточки хорошо прощупываются.
— Что с ними произошло? — повторяю я.
Она натянуто смеется.
— К чему все эти вопросы, Сейдж? Или ты ни с того ни с сего решила написать книгу?
В ответ я поворачиваю ее руку и аккуратно поднимаю рукав блузы, чтобы стали видны размытые края синей татуировки.
— Не у одной меня в семье шрамы, бабуля, — бормочу я.
Она вырывает руку и поправляет рукав.
— Я не хочу об этом говорить.
— Бабуля, — убеждаю я, — я больше не маленькая…
— Нет! — резко отвечает она.
Мне хочется рассказать ей о Джозефе. Хочется расспросить об эсэсовцах, которых она встречала. Но я точно знаю, что не стану этого делать.
Не потому, что бабушка не хочет это обсуждать. Мне стыдно, что человек, с которым я подружилась, для которого пекла, с которым сидела, разговаривала и смеялась, возможно, когда-то был одним из тех, кто наводил на нее ужас.
— Когда я приехала сюда, в Америку, тогда и началась моя жизнь, — говорит бабушка. — Все, что было раньше… случилось с кем-то другим.
Если бабушка смогла начать новую жизнь, почему Джозеф Вебер не смог?
— И как у тебя это получается? — мягко интересуюсь я, и теперь спрашиваю не только о ней, а еще о Джозефе и о себе. — Как тебе удается не вспоминать каждое утро?
— Я никогда не говорила, что все забыла, — поправляет бабушка. — Я сказала, что предпочитаю забыть. — Неожиданно она улыбается, проводя границу между этим разговором и дальнейшей беседой. — Моя красавица внучка не стала бы проделывать такой путь, чтобы поговорить о древней истории, верно? Расскажи мне о булочной.
Я оставляю слово «красавица» без внимания.
— Я испекла хлеб, внутри которого оказалось лицо Иисуса, — сообщаю я первое, что приходит в голову.
— Серьезно? — смеется бабушка. — И кто это говорит?
— Люди, которые верят, что Бог может явиться в домашней выпечке.
Она поджимает губы.
— Были времена, когда я видела Бога в каждой крошке хлеба.
Я понимаю, что она протягивает оливковую ветвь — знак примирения, серебро своего прошлого. Я замираю, ожидая продолжения.
— Знаешь, чего мне больше всего не хватало? Не кроватей, не дома, не матери даже. Мы говорили о еде. О жареной картошке с грудинкой, о бабке, о пирогах. Тогда за папину халу, свеженькую, прямо из духовки, я бы жизнь отдала.
Именно поэтому бабушка каждую неделю печет четыре буханки, хотя ей и одной много. Не потому, что собирается их съесть, а потому, что хочет иметь роскошь отдать остальное тем, кто нуждается.
Я делаю недовольную гримасу, когда звонит мой сотовый, — наверное, Мэри будет меня распекать, потому что вместо меня на смену явилась Робена. Но когда я достаю телефон из кармана, то вижу, что номер незнакомый.
— Это детектив Уикс. Можно поговорить с Сейдж Зингер?
— Ничего себе! — восклицаю, узнавая голос звонящего. — Не ожидала, что вы мне позвоните.
— Я провел небольшое расследование, — отвечает он. — Мы ничем вам помочь не можем, но если вы хотите куда-то отправить свою жалобу, советую обратиться в ФБР.
ФБР? Невероятный шаг со стороны местной полиции! Именно агенты ФБР арестовали Джона Диллинджера[14] и супругов Розенберг. Они обнаружили отпечатки пальцев, обличившие убийцу Мартина Лютера Кинга-младшего. ФБР расследует серьезные дела, касающиеся нынешней национальной безопасности, а не дела, которые откладывались десятилетиями. Они, скорее всего, засмеются, не дав мне закончить объяснения.
Я поднимаю голову и вижу, что бабушка у кухонного стола заворачивает одну из буханок в фольгу.
— По какому номеру звонить? — спрашиваю я.
Просто чудо, что я вернулась в Уэстербрук, не съехав с дороги, — так сильно я устала. Я вхожу в булочную, воспользовавшись своими ключами, и обнаруживаю спящую Робену — старушка сидит на огромном тюке с мукой, прижавшись щекой к деревянному столу. Радует то, что на полках остывают буханки хлеба, а по запаху слышно, что в печи пекутся другие.
— Робена! — Я мягко пытаюсь ее разбудить. — Я вернулась.
Она садится.
— Сейдж! Я прикорнула всего на минутку…
— Все в порядке. Спасибо, что помогла. — Я натягиваю фартук и завязываю его на талии. — Как настроение Мэри по десятибалльной шкале?
— Баллов двенадцать. Очень возбуждена, потому что ожидает завтра наплыва посетителей, — спасибо буханке с Иисусом!
— Аллилуйя! — равнодушно восклицаю я.
По пути домой я пыталась дозвониться до местного отделения ФБР, но мне ответили, что необходимо обратиться в Министерство юстиции в Вашингтоне. Там мне дали другой номер, но, по всей видимости, в отделе особых преступлений рабочие часы, как в банках. Я попала на автоответчик, который просил меня перезвонить по другому номеру, если дело безотлагательное.
Трудно решить, безотлагательное это дело или нет, учитывая, сколько времени Джозеф хранил свои секреты.
Поэтому я решила закончить печь хлеб, выставить буханки в стеклянные витрины и уйти еще до того, как Мэри откроет магазин. Перезвоню уже из дома.
Робена рассказывает мне, какие и когда она поставила таймеры: одни отсчитывают время выпечки, другие — пока подойдет тесто, третьи — сколько подходят уже оформленные буханки. Я чувствую, что следует поспешить, поэтому провожаю ее до входной двери, искренне благодарю и запираю за ней дверь булочной.
И тут мой взгляд падает на буханку с Иисусом.
Оглядываясь назад, я не могу объяснить Мэри, почему так поступила.
Хлеб зачерствел, он твердый как камень, с пестрыми семечками и пигментами, которые и создали поблекшее уже лицо. Я беру ухват, которым засовываю и достаю хлеб из затопленной дровами печи, и швыряю буханку с Иисусом в ее зев, на обжигающе красные языки пламени.