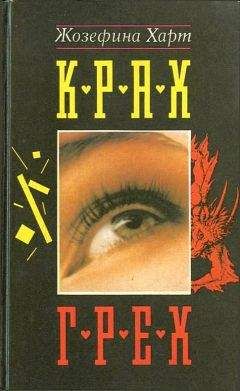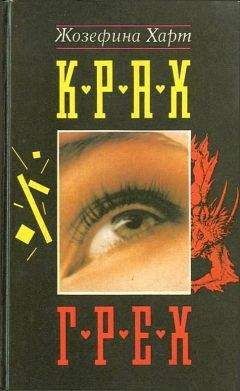Я позвонила Элизабет. Нужные слова сами слетали с языка. Фразы типа «семейный сбор», «мальчики», «так близки», «все вместе». И под конец: «Мама так одинока». Элизабет радостно согласилась собрать семью в Лексингтоне. Я слышала, как она уговаривает Чарльза.
А может быть, втайне тебе хотелось приехать в Лексингтон, Чарльз? И повидаться со мной? В телефонную трубку доносился его далекий голос — он отвечал на вопросы Элизабет, — и в нем барабанной дробью билось желание прикоснуться ко мне. Я цеплялась за себя и не рухнула.
Лексингтон. Осенние дни. Озеро. Вода стального цвета. Ворох листьев. Коричневые, желтые, рубиново-красные. И небо — высокое, холодное, серебристо-голубое. Решимость выгравировала что-то высокое, холодное и серебристое на моем лице.
Чарльз напоминает загнанного зверя. Он понимал, что попал в ловушку. Потому что он действительно попал в ловушку. Потому что он хотел в нее попасть. Когда мы все собрались в главной гостиной, я решила быть безжалостной.
Будь ты проклят, Чарльз. Ты думал, что сумел ускользнуть. Будь проклят. Я смирюсь с твоей смертью, но не с тем, что ты не мой. Когда он увидел меня, по его огромному телу прошла судорога испуга — это было так на него не похоже. Я спокойно подошла к нему. Он стоял рядом с баром.
— Ты уже свел знакомство с чертями, Чарльз? — прошептала я. — Надеюсь, ты проводишь время в аду.
— Надеешься, что он что?
— Что он доволен жизнью и больше бывает во Фримтоне.
— Мне всегда хотелось больше времени проводить с Элизабет.
Месть.
— А мне с тобой, Чарльз. А мне с тобой, — сказала Элизабет.
— Счастливая парочка.
Заметили ли они иронию, прозвучавшую в твоем голосе, Доминик?
— Как и мы, — улыбнулась я.
— Ага! — откликнулся он.
— Доминик, ты окончательно решил отказаться от студии?
— Да. Нам она ни к чему.
— Мне она нравилась. Никогда не думала, что захочу продать ее. Я была там так счастлива. Такое славное пристанище.
Я вспомнила запутанную постановку балета сладострастия. Тела, двигающиеся так, чтобы не задеть полотна. В ее пристанище. Ее муж и я. Должна ли я нанести ей сокрушительный удар? Разбить ее вдребезги? Но тогда я навсегда потеряю его.
— Я видел статью в «Дэйли»… Браннингтона Орчарда. Должно быть, ты находишь ее ужасной.
— Спасибо, Доминик. Мне трудно приложить к себе то, что кто-либо пишет о моих работах. Даже когда отзывы благоприятны. Но я должна научиться этому.
Долг художника. Художник, даже наделенный весьма скромным талантом, считает своим долгом развивать его, и часто этот процесс сопровождается самыми грандиозными демонстрациями возможностей темперамента.
— Должна ли, Элизабет? Разве Искусство — не единственное божество? И разве не «открою лишь тебе» у него на устах?
В моей душе кипела злоба. Душа? Многие годы она была на голодном пайке, маленькая, голодная, она принимала подношения злобы и все больше съеживалась.
— Ты ведь так на самом деле не думаешь, — ответила Элизабет. — Я знаю, что мои взгляды устарели, но все-таки я полагаю, что Искусство должно служить добру.
— Доминик. Ты вывел формулу добра. Если добро принять за x, а y за… Ну же. Не так уж много существует слов, способных определить доброту. Правда, Чарльз?
Я с улыбкой обернулась к нему. Его невидящий взгляд был устремлен в пространство.
— Мужество? — решился Стефан.
— Молодчина, Стефан. — Он благодарно улыбнулся своему пасынку.
— Но злые люди тоже часто бывают мужественными.
— Справедливость?
— Ага. Языческие добродетели взывают к тебе.
Слушай меня, Чарльз.
— Языческие добродетели, тетя Рут? — Стефан удивленно посмотрел на меня.
— Да. Добродетели, существовавшие до Христа. Незыблемые добродетели. Удел мужчин.
Я говорила резко. Слова требовали такого тона.
— Ну, мам, — перебил меня Вильям, — а мы, Стефан и я, каких должны придерживаться добродетелей — языческих или христианских?
Мне нравилась манера Вильяма говорить. Без нажима. Второй Доминик. Доминик преобладал в нем.
Стефан повернулся к Элизабет.
— Вы славные мальчики.
— А-а. О Боже, мам. Никогда не говори этого в обществе.
Стефан выглядел обиженным.
— Извини. Извини, Стефан. Извини, Вильям.
Элизабет рассмеялась.
— Ты допустила ошибку, Элизабет. — Доминик улыбнулся ей.
— Я знаю, Доминик. Я знаю.
— Наверное, Христос был сыт по горло этим варварством, и поэтому он начал проповедовать кротость, терпение и прочее. Любовь с большой буквы. Как ты думаешь, мам, можно его назвать мужчиной «новой формации»?
— Стефан, по-моему, ты кощунствуешь.
Она ласково улыбнулась. Она всегда улыбалась ласково.
— Никому еще не удавалось продемонстрировать сразу все свои добродетели.
Чарльз говорил, глядя на мальчиков:
— Понятие о добродетели у язычников и христиан не совпадает. Кроткое мужество? Покорная справедливость? Судьба решает, какие добродетели определяют нашу жизнь. Например, ты, Стефан, можешь обнаружить, что только мужество способно спасти твою душу. Пусть ты добр, кроток, любишь всех… но христианские добродетели тебе чужды. Главной добродетелью ты сочтешь мужество.
Посмотри на меня, Чарльз. Чарльз. Посмотри на меня. Хотя бы один взгляд. Я была мужественна. Почему же ты не последовал моему примеру?
— Элизабет, какая, по-твоему, главная добродетель? — Доминик повернулся к ней.
Расскажи мне о добродетели, Элизабет.
— О, дорогой, на этот вопрос ответить очень трудно…
— Ну же, мама, давай, — вмешался Стефан.
— Одно качество не может совершенно вытеснить другие. Как сказал Чарльз, можно быть жестоким и мужественным, искренним и надменным. Извините, я несильна в подобного рода вопросах.
О, что ты, Элизабет. Не надо оправдываться. Ты все делаешь прекрасно.
— Мальчикам было бы полезно услышать… это очень важно.
Мой горящий взгляд был прикован к ней.
— Все зависит от отношения к миру. К людям. К себе. Это отношение… Это вера, которая основывается на решении поступать правильно в любых обстоятельствах. Моя философия жизни такова: поступок… определяется мыслью. Дурной поступок порождается злыми мыслями. Поэтому необходимо развивать в себе способность мыслить добродетельно. И это позволит избежать зла. Я… Не имеет значения, что этот механизм не всегда срабатывает. Ведь обычно все гораздо сложнее.
Чарльз подошел к ней.
— Конечно, Элизабет, все гораздо сложнее.
Он подсел к ней.
— Так что же решает… душа, сердце или разум? — спросила я. Заинтересованно.