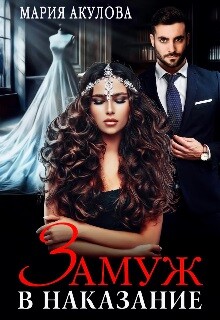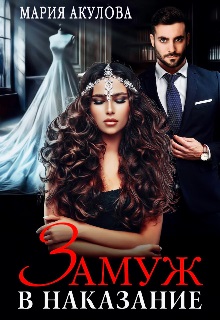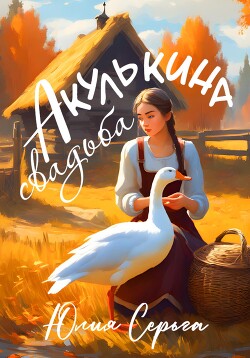Но для дальнейшей борьбы мне нужно было бы собраться, вспомнить, за что стою, а я просто не могу.
Меня несет. И я смиряюсь.
Чтобы не страдать, учусь ничего не чувствовать. Осознание, что все вокруг предатели, становится моей обыденностью. Этот факт я тоже просто принимаю. Как и отцовское решение мной распорядиться.
Я не знаю, рады ли родители, что я вдруг начинаю исполнять каждую из команд. Не знаю, замечают ли, что глаза мои – стеклянные. Жизнь – бесцветная. Пёстрые ковры потускнели. Розовые стены стали серыми. Зеленые глаза Салманова такими же.
Он не частит с приездами. Передает подарки, я безразлично за них благодарю и не касаюсь.
Когда мама пришла сказать, что едем мерить платье, я не спорила. По ее указке выставляла руки вперед, вверх, крутилась, поднималась на пьедестал и спускалась с него, чтобы одно менять на следующее.
Мне было всё равно, какую выберут обертку. Казалось, что сквозь туман моего анестетического безразличия пробивалось мамино недовольство, но это не вызывало во мне никаких чувств.
В своей прошлой, оборвавшейся в ночь побега, жизни, я получила бы удовольствие от того, что солю тем, кто солит мне. Сейчас у меня нет сил на злорадство. Меня несет.
Несет-несет-несет.
В свадебном салоне с нами была ещё Лейляша. К ней тянется моя душа, но я боялась, что если рот открою – разрыдаюсь. Поэтому от нее я тоже закрыта. Даже в глаза старалась не смотреть. А она так меня жалела, что и самой становилось жалко.
Неужели я не сошла тогда с ума и не должна радоваться перспективе замужества с нелюбимым? Лейла могла бы меня в этом подбодрить, поддержать, стать плечом, но для этого поздно.
Надеюсь, я поняла Аллаха правильно. Пришло время для смирения.
Папа так и не снизошел до разговора по душам. Это снова больно, но чуть-чуть.
Митя не оббивал пороги, не пытался извиниться. Подозреваю, без моих проблем ему наконец-то стало легче. Но я не рада за него. Вспоминаю – в груди печет. Сложно забыть увиденную картину. Сложно собрать себя воедино после такой силы удара. Если я ему изначально не подходила, не устраивала, если ему так важно было сразу брать от жизни всё, то зачем же так жестоко? Почему со мной?
Я никогда не получу ответы на эти вопросы. Никогда их уже не задам.
А сегодня стану женой Айдара Салманова.
Церемония пройдет в мечети. Дальше – небольшое гуляние в ресторане. Недолго и только для самых близких. Меня об этом особенно никто не спрашивал, но так решил господин прокурор.
Я плохо спала ночью, но пришедшая красить и укладывать меня девочка бесконечно хвалит, что кожа молодая, свежая, пышет здоровьем. Она воодушевлена, восторгается моим висящим на шкафу платьем, пытается побольше узнать. А как познакомились? А как предложение сделал будущий муж? Как долго вместе…
Я не знаю, что отвечать. Теряюсь. Правду не скажу. Врать… Ради чего?
Время от времени в комнату заглядывает мама, всплескивает руками и качает головой. Я слышу часто повторяющееся «машалла, кызым». Результат ей явно нравится. А мне даже в зеркало на себя смотреть не хочется.
С платьем, обувью и головным убором мне помогают.
Когда я готова, в спальне, в уголке, немного отступив, тихонько плачет мама. Мне кажется, причины для слез у нас разные. Я внутри тоже навзрыд. Но не потому, что это самый важный в моей жизни день. А потому, что, кажется, последний.
Лейла – единственный человек, которому я благодарна за то, что рядом, – обнимает меня и шепчет на ухо много-много обнадеживающих слов. Я бы хотела все их запомнить и повторять себе же. Когда? Например, уже этой ночью…
Думаю о ней и крупно дрожу. Лейла отрывается, смотрит в глаза, шепчет:
– Я тебя очень люблю, Ручеек. Ты всегда можешь ко мне прийти, хорошо?
Киваю, опускаю взгляд.
Мама дает мне букет элегантных калл. В спальню стучится отец.
По укрытой белым атласом коже на руках бегут мурашки.
Он заходит тяжелым шагом, за ним – Бекир. На обоих я не смотрю. Вниз. Как папа и хотел всегда.
Потише. Покорней. Приличней.
Он говорит формальные, сейчас кажущиеся бессмысленными, правильные слова. Я приподнимаю разрисованные хной руки, чтобы не мешать надеть красивый, исполненный специально для меня ювелиром, свадебный пояс.
Дальше я должна поблагодарить папу за всё добро, которое он для меня сделал, и извиниться за прегрешения, которые наверняка есть у всех детей перед родителями, потому что сегодня я не просто выхожу замуж, а меняю семью. Но язык не повернулся бы. Да и папа не настаивает.
Я давно не называю его любимый бабасы даже в голове. Это осознание делает почти так же больно, как напоминание о его предательстве.
– Можно мы с Айлин несколько минут наедине поговорим? – От произнесенной громко и уверено просьбы брата я даже пугаюсь. Вскидываю взгляд, смотрю в лицо внимательно.
Бекир выглядит решительным, но далеко не таким счастливым и гордым, как я представляла раньше.
Мама опускает взгляд, кивает. Папа, чуть подумав, тоже идет к двери.
Мы остаемся вдвоем.
Я знаю, что в платье лучше не садиться, чтобы не помять, но силы по-прежнему выкапывают из меня ручейками, поэтому опускаюсь на край уже не своей кровати.
Мои вещи собраны и отвезены в новый дом. Вечером я поеду в него же. Через полтора часа стану Салмановой. Навсегда. Или пока ему не надоем.
Смотрю на красивый букет, который не может порадовать. Чувствую, что атмосфера накаляется. Воспринимаю это на свой счет. Ищу причину в своем поведении.
Думаю: что я еще должна сделать? Я же уже со всем согласилась… Позвольте хотя бы на похоронах своих не смеяться.
От жалости к себе же сжимается горло, но слабой быть при Бекире не хочется. Прокашливаюсь.
Он шагает ближе. Неожиданно для меня приседает. Сжимает своими руками мои запястья, заглядывает в лицо снизу.
– Айка…
Зовет, а я не могу успокоить вдруг задрожавшую нижнюю губу.
Не хочу я замуж. Не хочу я так.
Он гладит тонкую кожу там, где бьется пульс. Я прилагаю последние силы, чтобы успокоиться.
Мельком смотрю в его лицо. Оно живое. Без осуждения. Как будто он наконец-то опустил стекло, которое стояло между нами все эти дни.
– Айдар-бей – хороший человек. Он тебе плохо не сделает.
Выть хочется. И хотя бы не слышать это имя до никаха. Дергаю руки, Бекир придерживает. Вздыхает, двигается еще ближе:
– Ты ему сильно приглянулась, видно же. Это он тогда мне объяснил, что нельзя на тебя злиться. Права не имею.
Слова пробивают броню. Рушат мою защиту безразличием. Почему именно они? Почему именно о нем? Почему это случилось не когда папа врал, что желает нам благополучия? Я же знаю, что на самом деле, он желает его себе. Хочет внуков от господина прокурора. Чтобы побыстрее посильнее породниться.
Ловлю себя на том, что все эти вопросы задаю молча, глазами, смотря на Бекира.
Он видит, что немного ожила. Улыбается и тянется к щеке.
– Я хочу, чтобы ты была счастливой, сестренка. Если неправ в чем-то – прости. Я тебя не брошу. Я рядом всегда…
Выдыхаю и дергаюсь.
– Рехмет.
Благодарю, встаю и движусь к двери, оставляя брата на корточках. Чувствую взгляд спиной, а сама нажимаю на ручку.
Я уже даже не знаю, где мне будет лучше. В доме родных лицемеров или навязанного чужака.
Всю дорогу до мечети отвлекаюсь от накатывающей паники мыслями о словах брата. Может просто убедить себя, что мне везет? Может придумать, что господин прокурор сильно-сильно влюбился с нескольких взглядов? Спасает меня? Будет любить, беречь?
Может притвориться, что я готова довериться судьбе?
Каждый раз прихожу к выводу, что на это я не способна. Но и не думать, что возможно он не так плох, тоже не могу.
Зачем ему было уговаривать Бекира мириться? Это же я страдала. Ему-то что?
Как только вижу Салманова, стоящего у своей машины, обо всем забываю.
В мечети мы будем без посторонних. Это его условие. И, как ни странно, я ему за это благодарна.