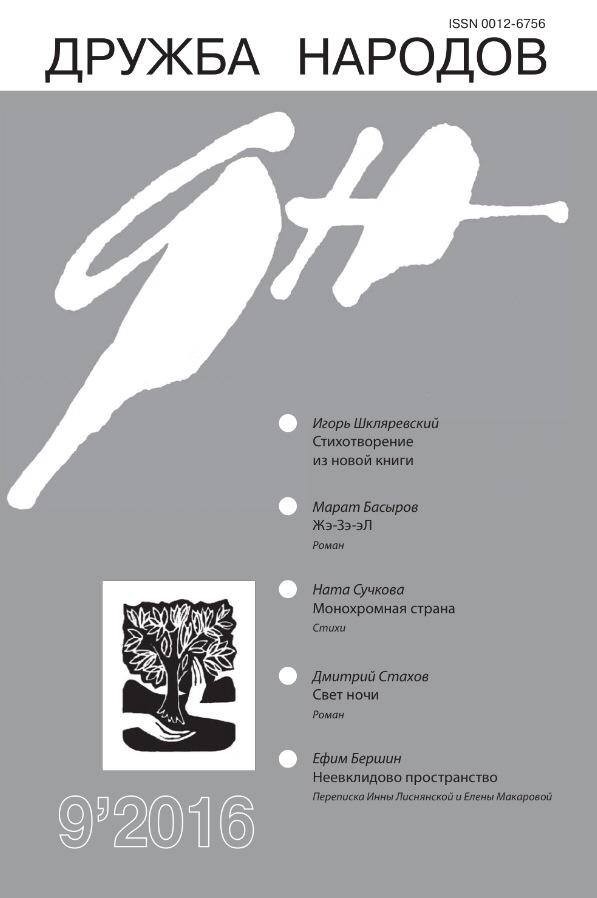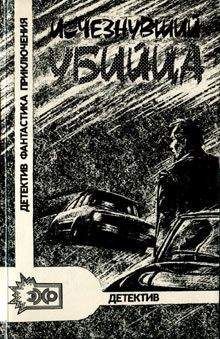— Простите скорей!
Я ногой захлопываю дверь, сбрасываю туфли, кидаю на стул пиджак и натыкаюсь на ее торчащую крепкую грудь. Ее руки обхватывают меня за плечи, большой рот прижимается к моему рту, гладкий верткий язык раскрывает мои губы, проникает глубже, начинает вращаться у меня во рту, заставляя учащенно дышать.
— Не думаю, что у нас получится, — говорю я, с трудом вытолкнув ее язык.
— Получится! Ни о чем не беспокойся!
13.
…Меня будит чье-то покашливание: в кресле, широко расставив колени, сидит некто: это городской полицейский начальник, белоснежная рубашка, на рубашке — полковничьи погоны с золотым шитьем.
— Доброе утро, Антон Романович! — говорит он. — Извините, дверь была не закрыта. У меня к вам неотложное дело. Требуется ваше присутствие.
— Сколько… Сколько сейчас времени?
— Половина восьмого. Вы, как видно, неспокойно провели ночь. Вставайте, пожалуйста. Машина у подъезда.
Простыни скомканы. В пепельнице длинный окурок со следами губной помады. На простынях — кровь.
— Это моя, — говорю я, указывая на простыни, — мне делали операцию, я должен был еще находиться в больнице, но меня вызвали, послали в ваш город, у меня швы…
— Антон Романович! Дорогой мой человек! Я все знаю. Тут только кто-то у вашего столика столешницу подпортил. — Он указывает на журнальный столик, на который швырнули сумочку с гантелями: на столешнице глубокая вмятина. — Умойтесь, оденьтесь и спускайтесь. Дело на пару минут!
В ванной, на полочке под зеркалом, обнаруживаю пенал с красной помадой и вспоминаю крепкие объятья ночной настойчивой гостьи. От ее поцелуев болят губы, ее язык намял мне десны, на плечах — синяки, отметины от пальцев ангела потемнели. Выйдя из ванной, я выпиваю пару стаканов теплой воды из графина, одеваюсь и выхожу в коридор. При моем появлении дежурящий там полицейский вздрагивает. Мы идем к лифтам. Полицейский горячо дышит мне в шею. У лифтов — Извекович и Тамковская.
— Что случилось, Антон? — спрашивает Извекович.
Тамковская смотрит на меня широко открытыми глазами: у нее такое выражение лица, будто она видит перед собой государственного преступника, которого ведут к месту публичной казни.
— Понятия не имею, Роберт!
Раздвигаются двери лифта, мы вчетвером втискиваемся в узкую кабину.
— Учтите, я должна буду обо всем сообщить нашему руководству, — говорит Тамковская, строго сжимает губы, складки прорезают ее подбородок. — Я уже сообщила, что вчера вы…
— Идите в жопу, Ольга! — говорю я. — Не стройте из себя начальницу. Завтракайте и приступайте к работе, я скоро вернусь, осуществлю над вами методологическое руководство. Проверю ваши дневники приема!
Полицейский открывает дверцу машины, я жду, что он придержит мою голову, но полицейский невнимательно смотрит американские фильмы, дверцей прищемляет мне ногу.
— Легче, Кунгузов, легче! — говорит полицейскому его начальник с переднего сиденья. — Антону Романовичу нога еще пригодится. Верно, Антон Романович? Дед рассказывал, — дешевле было заказать один сапог сапожнику, чем два. Знаете частушку — «Хорошо тому живется, у кого одна нога»? Вот, теперь закрывай, Кунгузов. Поехали!
Машина трогается. Кунгузов — вот, значит, кто ездил за таблетками для умирающего Лебеженинова — остается у крыльца гостиницы, обернувшись, я вижу, как к нему подходят Тамковская и Извекович. Кунгузов козыряет — не иначе Извекович назвал свое воинское звание.
— Частушки — наше народное достояние, — говорит полицейский. — Обожаю их и классику. Толстой, Достоевский. Перечитываю. И лучше начинаешь понимать людей. Согласны? Преступление и наказание. Только сейчас не найти преступника, который бы страдал, хотел бы открыться, признаться, покаяться. Все себя выгораживают, оправдывают, никто никогда не скажет: «Да, я убил. Судите меня!» Нет! Смотрит на тебя, морда наглая, жизнью доволен, наказания не боится. А страх должен быть. Он держать должен. Без страха никак! А теперь кто кого боится? Да никто никого не боится! Согласны?
— Конечно! Без страха жить невозможно.
— Это вы как психолог говорите?
— Не только. — Меня вот-вот стошнит. — Как гражданин. Как человек.
За длинным столом в кабинете полицейского начальника сидит главный местный эфэсбэшник, широкоплечий и бровастый. Он читает газету, которую отшвыривает при нашем появлении.
— Михаил Юрьевич! — говорит эфэсбэшник, устало и с укоризной.
— Иван Суренович! — в тон ему отвечает полицейский начальник.
— Наше дело на контроле, Михаил Юрьевич. — Эфэсбэшник кивает на потолок.
— В курсе, Иван Суренович, в курсе.
— Ну, так как?
— Одно следственное действие.
— В моем присутствии.
— Не вопрос.
Оба смотрят на меня, и одновременно произносят:
— Антон Романович!
— Да! — отвечаю я.
— Присаживайтесь. — Полицейский начальник отодвигает стул, обходит стол, встает рядом с эфэсбэшником. — Прошу!
Мы садимся. Они сидят напротив. Рядышком. Потом полицейский начальник встает, открывает стоящий в углу кабинета холодильник.
— Иван Суренович? С газом? Антон Романович? — Он ставит на стол большую бутыль воды, три стакана, наливает воду в стаканы, мы с ним начинаем пить воду, а эфэсбэшник, подняв с пола газету, тщательно складывает ее.
— Так, — полицейский начальник ставит стакан на стол, — так, Антон Романович, так-так…
Я думаю о том, что мой начальник беспрерывно звонит на забытый в номере гостиницы телефон, о женщине, которая была со мной этой ночью. Думаю об ангеле. Сегодня мне надо позвонить врачу. У меня будут хорошие анализы, надо начинать жить.
— Антон Романович! — Полицейский начальник чуть наклоняется вперед. — Где вы были вчера от половины одиннадцатого вечера до одиннадцати?
Эфэсбэшник вздыхает, кривит физиономию, подмигивает.
— Антон Романович, — говорит он, — Михаил Юрьевич спрашивает неофициально. Вы ни свидетель, ни подозреваемый. Это не допрос, это даже не разговор. Это — беседа.
— А в чем, по-вашему, разница между беседой и разговором? — спрашиваю я, свинчиваю крышку с бутылки и наливаю себе еще воды.