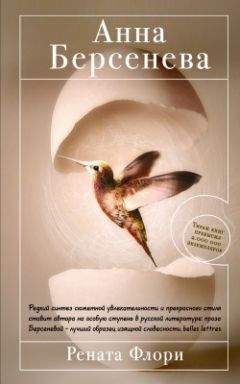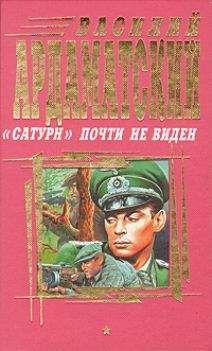«Умеет господин Винсент Ван Бастен актрис выбирать», – подумала, глядя на нее, Рената.
Словно в подтверждение ее мыслей, Грушенька бросила на Винсента взгляд, который показался Ренате откровенно влюбленным.
Но Иван Карамазов совсем не обращал внимания на милую Грушеньку. Он в упор смотрел на Ренату. И взгляд его был так же неприятен, как его открытая и совершенно непонятная к ней неприязнь.
Она отвернулась. В конце концов, не мешало бы и поесть – зря, что ли, пришла в ресторан? Рената придвинула к себе хрустальную тарелку, на которой лежали маринованые миноги.
Но ее уловка не помогла.
– Считаете, я глупости говорю? – снова раздался громкий, резкий голос Ивана.
Делать вид, будто она не понимает, к кому обращен вопрос, было глупо. Рената прямо посмотрела на своего назойливого визави.
– Если отбросить вежливые экивоки, то да, – сказала она.
– Даже так?
Он сощурился; глаза сверкнули узко и зло.
– Именно так.
– Почему же, интересно?
– Ничего интересного, – отрубила Рената. – Глупо и пошло считать болезнь какой-то… – Она хотела сказать – преференцией, но сообразила, что Иван может и не знать этого слова. – Каким-то… бонусом. А говорить, что человеку повезло быть эпилептиком, – это, по-моему, не только пошло, но и подло.
Все-таки привычка одними людьми руководить, а за жизни других отвечать давала о себе знать – Рената умела быть резкой.
Почувствовав в себе эту резкость, она в ту же минуту почувствовала и уверенность в себе и наконец решилась посмотреть на Винсента. Он смотрел на нее не отводя взгляда, и взгляд его был печален. Тарелка перед ним оставалась полной – он не притронулся к еде. И бокал с вином стоял рядом с тарелкой нетронутый.
– Если смотреть на искусство с точки зрения бытового удобства, то конечно, – насмешливо произнес Иван. – Конечно, эпилепсия – это нехорошо.
По его тону было понятно, что он даже не предполагает, чтобы такая женщина, как Рената, могла смотреть на искусство с какой-нибудь другой, кроме как бытовой, точки зрения.
Она же, в свою очередь, не предполагала, что дерзкие слова какого-то мальчишки могут так ее задеть.
– Я… – произнесла она, задыхаясь от волнения. – Вы совершенно не правы!..
Она почувствовала, что щеки у нее гневно запылали, чего не происходило с нею, кажется, уже лет двадцать, если вообще происходило когда-либо.
Внизу, в большом зале, на сцене, расположенной под Аполлоновой колесницей, заиграл притихший было оркестр. Зазвучало танго.
– Горячее когда подавать? – спросил официант.
Его вопрос был обращен к Винсенту. Но он официанту не ответил.
Винсент встал и, обойдя стол, оказался рядом с Ренатой. Он сделал это так быстро, даже порывисто, что упал отставленный им стул.
– Я могу пригласить вас танцевать? – спросил он, глядя на сидящую Ренату с высоты своего роста.
Она тоже невольно встала, и тоже порывисто – конечно, только потому, что ей неловко было задирать голову. Танцевать ей совсем не хотелось: гнев был не лучшим сопровождением для танцев.
Но Винсент понял ее порывистое движение именно как желание потанцевать. Он взял ее под руку – прикоснулся к локтю тем же легким, осторожным движением. Вот только когда он сделал это в первую минуту ее появления, Ренату взволновал его жест. Теперь же она почувствовала лишь, что гнев сменяется в ее душе унынием.
«Он хочет меня успокоить, – подумала она. – Успокоить, отвлечь. Чтобы я не чувствовала себя среди близких ему людей такой чужой. Такой старой… И такой серой».
Она вдруг отчетливо, остро, болезненно ощутила свою внешнюю, уже ставшую привычной, блеклость как часть блеклости общей, внутренней, составляющей самую суть ее незамысловатой натуры. И стоило ли при этом обижаться, что даже молодой человек, которому злость заменяет ум, воспринял ее как часть бытового пейзажа?
Как воспринимает ее Винсент, думать ей вообще не хотелось.
Рената повела локтем, освобождаясь от его руки.
– Извините, – сказала она, – у меня голова разболелась. Я пойду.
И, ни на кого больше не глядя, не оборачиваясь, пошла к дверям.
Рената сбежала по мраморной лидвалевской лестнице стремительно, как Золушка. Вот только туфельку не потеряла – видно, такой рисунок не был предусмотрен ее судьбой. И давно она уже была не в том возрасте, когда ждут принца.
«Да и никогда я его не ждала», – думала она, быстро переходя через площадь Искусств под рукой у бронзового Пушкина.
Дома зодчего Росси обступали ее со всех сторон. Вид прекрасных, классически строгих питерских зданий всегда вносил мир в Ренатину душу. Но сейчас этого не происходило – впервые в ее жизни.
Она прошла до конца Итальянской улицы, вышла на узкий мостик, перекинутый через канал Грибоедова. На мостике, как всегда, играли уличные музыканты. Странно, что они играли даже теперь, вечером. В весенней тревожной тьме их музыка звучала уныло. Да нет, это просто настроение у нее сейчас унылое, и нечего на музыкантов пенять.
Рената остановилась на мосту, глядя на тускло-зеленую воду канала. Ее душили слезы.
«Я сама виновата, – думала она, судорожно эти дурацкие слезы сглатывая. – Я стала рутиной. – Наверное, это была не очень правильная фраза, но Ренате было сейчас не до правильности фраз. – Да-да, рутиной. Что такое моя жизнь? Работа – дом – работа. И все это я знаю уже до мелочей, во всем этом нет ничего такого, что будило бы… Да хотя бы воображение будило! Я превратилась в какую-то унылую функцию. Еще вздумала смеяться над пафосом, с которым эти дети рассуждали о Достоевском и ноосфере! А сама вообще, между прочим, только приблизительно знаю, что это за ноосфера такая. Мне просто незачем стало это знать. Чтобы делать кесарево и покупать свежие булки у метро, ноосфера ни к чему. И… И что я о себе вообразила? Какие чувства я могу вызывать у мальчика, который весь – порыв, трепет, у которого и мысль, и чувство светятся в глазах? Даже интереса я не могу у него вызывать, элементарного человеческого интереса, не говоря уже о… Господи, какая глупая фантазия пришла мне в голову, и почему вдруг, и зачем, зачем?!»
Слезы, которые она так старательно пыталась сдержать, все-таки потекли по ее щекам. Давно уже остыли ее щеки от гнева, потому что не было в ее жизни места таким сильным чувствам, как гнев. Она сама не заметила, как это произошло, что в ее жизни не стало места сильным чувствам, но произошло же, и никакие перемены уже невозможны, потому что не может человек переменить свою душу, не может заставить кровь быстрее бежать по жилам. Это тебе не гемоглобин повысить, попил таблеток – и готово.
Вот пожалуйста, даже сейчас ей в голову приходят какие-то медицинские сравнения. От осознания этого силы оставили Ренату совершенно – ноги подкосились, она присела на корточки и в голос зарыдала. Как противна она была себе при этом! Осталось только с моста в воду броситься, как Бедная Лиза какая-нибудь.