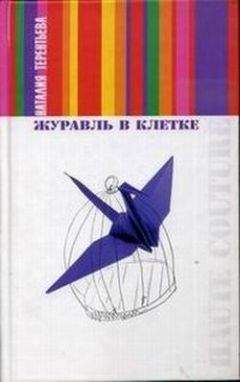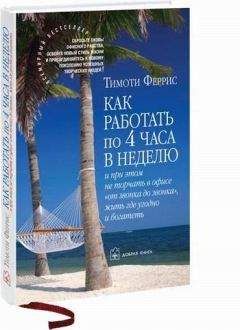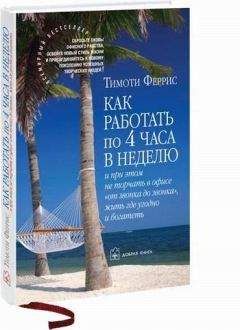– Послушай-ка, – попыталась вернуться из воспоминаний я, – почему, стоит мне надеть какую-нибудь твою вещь, ты сразу разговариваешь со мной, как с самой тупой троечницей из твоего класса?
Хорошо, – Маша прислонилась ко мне головой. – Не буду. Тебе мои штаны очень идут, Ходи так на работу. И… ты не дружи с этим дураком, ладно?
– Давай развяжем ему хотя бы руки. – Я решила, что сейчас самый подходящий момент сказать то, о чем я думала уже полдня. – Если он сам уже все не развязал…
Но Маша вдруг сразу согласилась:
– Давай, – и поцеловала меня в нос.
Мы вместе сходили в баньку, развязали руки и ослабили веревку на ногах у спящего Соломатька – я была почти уверена, что он вовсе не спит, а притворяется, но не стала говорить этого Маше, не хотелось еще больше настраивать против него. Меня радовало, что ее ожесточение немного проходит.
Вернувшись на веранду, которую выбрали местом своего обитания, мы решили допить остывший чай. Я вообще-то терпеть не могу даже очень теплый чай или кофе, просто выливаю и завариваю новую чашку, но здесь приходилось из экономии пить и совсем прохладный. Получился почти что отпуск в специально создаваемых экстремальных условиях – говорят, отлично помогает при депрессии, неврозах, бессоннице, мужской слабости и прочих критических состояниях души и тела. Поскольку у меня, слава богу, нет ничего из вышеперечисленного, мне, наверно, должно стать просто совсем хорошо после пребывания на Соломатькиной даче, если только мы не загремим в колонию усиленного режима вместе с моей малолетней Машей. Но это казалось мне все-таки маловероятным.
– А ты подумала, что мы будем с залогом, то есть с выкупом, делать? – спросила Маша, стоически макая ложку в сахарный песок и облизывая ее.
На предложение нашего заложника полакомиться вместе с ним клубничным или абрикосовым вареньем Маша гордо ответила отказом. Я-то знала, чего ей это стоило. Аппетитные, пузатые банки с прозрачным сиропом и крупными, целыми ягодами стояли ровными рядами на полках буфета. Маша только мельком взглянула на них, а Соломатьку объяснила так – «Мы не гости, но и не мародеры. Ты сам ешь, пожалуйста, хоть объешься. – И совершенно по-детски добавила: – И потом, сразу видно, что варенье невкусное – «Возьмите на полкило ягод три кило сахара…»
Сейчас я укоризненно посмотрела на нее, но она неправильно поняла мой взгляд:
– Мам, ну хватит нам сахару… еще только одну ложечку.
– Я не о том. Так ты не оставила мыслей о… выкупе?
– Мам! – Тут уже Маша укоризненно покачала головой. – Все. План такой. Сегодня отрезаем ухо.
– Господи, ну что ты говоришь!..
– А ничего. Положим в мешочек, обложим его шариками со льдом -ив коробочку. Пошлем родным и близким как предупреждение о серьезности наших намерений.
– Машунь, может, тебе на юрфак, а не в Консерваторию поступать?
– Вот и я думаю, – задумчиво пропела Маша на мотив какой-то знаменитой мужской арии, кажется из «Онегина», и вздохнула: – Покормить, что ли, его пойти, а, мамуль? Как ты считаешь?
Попрепиравшись, чем кормить пленника и, главное, – кто понесет еду, мы пришли к неожиданному решению: привести его к нам на веранду, спросить, чего он хочет, и вместе поесть.
Соломатько был необычайно тронут предложением совместно отобедать. Тут же засомневался, достаточно ли аккуратно он одет для этого, попросился в ванную, чтобы побриться и помыть уши. Услышав это, Маша от неожиданности фыркнула, а я заметила победный огонек в глазах ее папы и подумала – не зря ли я жалею нашего пленного. Пока Маша готовила в большой, прилегающей к веранде кухне, он молчал, очень внимательно глядя на меня. Я понимала, что он предполагает, что разговор начну я – любой, хоть про погоду, – но как-то проявлю интерес, и молчала тоже. Не проронил он ни слова и тогда, когда Маша, явно недовольная собой и мной (скорее всего оттого, что я не пришла ей помогать, а сидела и молчала с Соломатьком), принесла поднос с едой.
Закинув в рот пару крохотных куриных медальончиков, наспех приготовленных Машей, но выглядевших вполне аппетитно, он наконец сказал:
– Тебе не нужны никакие иностранные языки, дочка, с такими котлетками. Бесценный дар, бесценный!
Маша равнодушно повела плечами, не поддавшись на грубый комплимент. Я, правда, попробовала котлетки и тоже удивилась – как же это Маше иногда удается из ерунды приготовить что-то очень вкусное. При том, что готовит она быстро, все бросая на глазок, и пробуя на ходу полуготовое блюдо.
Я взяла с большой тарелки еще несколько пухленьких котлет, попутно размышляя – мародерство ли это, или не совсем… А Соломатько, прервав мои сомнения, пододвинул к себе оставшиеся котлетки, быстро доел их и зажевал тонкими хрустящими сухариками. Затем взял чашку с чаем, откинулся на стуле и обратился ко мне, улыбаясь:
– Значит, замуж ты так и не вышла… – Соломатько хамовато подмигнул. – Спрашивается: а почему?
Я взглянула на его непроницаемое лицо и поняла, что придется поднапрячься и переигрывать его. Не пасовать же перед ним в присутствии Маши! Я вздохнула и приготовилась ответить что-нибудь горькое и светлое.
– Потому что она боялась, что какой-нибудь придурок вроде тебя изнасилует меня в тринадцать лет, – ответила ему вместо меня Маша и с силой треснула его по левой руке, которую он тянул к моей коленке под столом, чтобы ущипнуть. – Или в двенадцать. Тебе зачем руки развязали? Чтобы ты ими под столом шарил?
– Чтобы я ими шарил по столу, – сострил Соломатько и изобразил пианиста, нарочно задев вазочку с вареньем и опрокинув ее на чистую скатерть.
Скатерть, конечно, была его, но убирать-то мне – не оставлять же в доме бардак Время от времени я забывала, зачем мы здесь находимся, все происходящее начинало казаться мне нереальным.
– Ах ты гад! – рассердилась Маша и еще сильней треснула его по рукам.
Соломатько только засмеялся.
– Тебе руки развязали, – продолжала совсем озверевшая от его смешка Маша, – потому что ты есть не умеешь. Вот это что? – Она ткнула пальцем в желтое пятно на его белом свитере.
– Доченька… – Он перестал смеяться и проговорил с тихим укором: – Я пытался замыть пятно, но оно не замывается. И с завязанными руками я действительно есть не умею. Но я могу научиться.
Маша метнула на меня чуть растерянный взгляд и еще повысила тон:
– Сколько можно повторять: никакая я тебе не дочка, а Мария Игоревна. Меня так все преподаватели в школе зовут. Уяснил?
Маша привирала, конечно. Так звал ее только педагог по вокалу Алексей Митрофаныч, который обучал всех знаменитых оперных солистов за последние восемьдесят лет, или, как смеялась Маша, – в прошлом столетии. А кроме того, ее так звали мальчишки в классе, которые боялись и любили ее одновременно. Вот удивительное поколение – в мое время боялись одних девочек, а любили других. Маша же была первой и неоспоримой звездой в классе, во дворе и в любой компании.