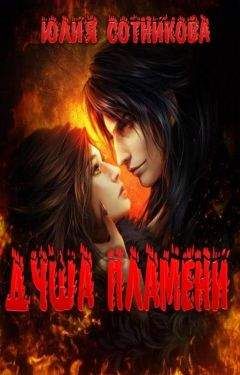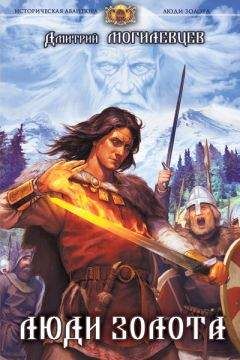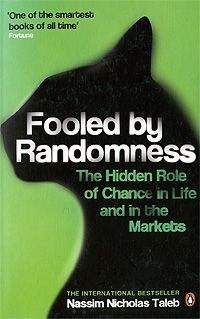– На работу устроился, на ГЭС. Месяц поработал – в таксопарк перешел. Потом и оттуда уволился. Денег ему на жизнь хватало, он в Челябинске квартиру сдавал, а на себя и Витьку я и сама зарабатывала. Витьке семь лет тогда было, он спрашивает: дядя Женя, а почему ты на работу не ходишь? А тот ему отвечает: сейчас в мире новая концепция. Тут и я заинтересовалась. Какая же, говорю, новая концепция на этот счет явилась в мир? А теперь, говорит, достаточно одного процента рабочей силы и ресурсов, чтобы обеспечивать для всех людей их основные потребности. И в работе на износ, говорит, нет смысла для общества, наоборот, если все начнут меньше работать, то не будет безработицы, потому что на одно рабочее место можно будет брать двух или даже трех людей.
– Логика, между прочим, есть, – хмыкнула Люда.
– Есть, да. Только при мысли, что мой сын такую логику с детства усвоит… В общем, попросила я дядю Женю вернуться домой. Хоть в Челябинск, хоть в Грецию.
– Все-таки это глупо, – заметила Люда. – То есть каждый шаг у тебя вроде бы и правильный, а в результате выходит пшик.
– Наверное.
– Не наверное, а точно. Потому что у тебя цели нет.
– Какой цели? – не поняла Вика.
– Да никакой. Ну, должна же у человека быть в жизни цель. Выйти, например, удачно замуж. Или, я не знаю, кинозвездой стать. А у тебя ее нету.
– У меня была… – проговорила Вика. – Я хотела – и стала.
– Кинозвездой?
Вика не ответила. Ее готовность пускать Люду в свою жизнь была не безграничной. Она вообще не хотела, чтобы в ее жизни толкались посторонние люди. Слишком много их было в детстве.
– Я пойду, Люд, – сказала она. – У меня еще двое ресниц сегодня.
– А мужчину все-таки заведи, – посоветовала Люда, провожая Вику в прихожую. – Хотя бы для здоровья.
Цель в жизни… Эти слова не выходили у Вики из головы, когда она спускалась по лестнице Дома и по ступенькам между львами у крыльца. В этих наивно звучащих словах была не просто житейская логика и житейская же патетика – в них была правда.
Что было бы с ней, если бы цель не появилась у нее в детстве? По какому пути пошла бы жизнь, если бы высокая цель не озарила ее юность? А теперь… К чему она стремится теперь, что манит ее в будущем, что придает смысл любым, даже самым незначительным поступкам в настоящем, что поднимает с кровати по утрам и выводит на улицу в мрачную осеннюю погоду, помогает не обращать внимания на насморк и выздоравливать после гриппа? Заработать достаточно денег, чтобы выучить Витьку, – это безусловно. Но если смотреть не на Витькину, а на ее собственную жизнь, то следует признать, что настолько бессмысленной она не была никогда.
И невозможно этот смысл придумать, и не высосешь его из пальца. Он либо есть, либо нет его.
Вот сейчас смысла в ее жизни нет. И от того, что девяносто человек из ста даже не поймут, что она имеет в виду и зачем вообще об этом думать, тоска не отпускает ее сердце и разум.
Вика заглянула в записную книжку. Следующие ресницы ей предстояло делать в Лефортове.
В этом районе она бывала уже дважды; он ей нравился. Здесь меньше чувствовалась скороспелая новизна, и Москва поэтому казалась какой-то… Непрерывной, вот какой. Дома, мимо которых Вика шла, чтобы попасть на улицу Госпитальный Вал, стояли на своих местах и сто, и, может быть, двести лет, являя собою очень мощные и именно непрерывные обстоятельства жизни. Мало в Москве было мест, создающих такие обстоятельства.
Вот Лондон весь из них состоит. Мыслями постоянно в него возвращаясь, Вика уже поняла, что с первой минуты чувствовала себя в Лондоне как рыба в воде. Причины такой своей приязни к городам с непрерывными жизненными обстоятельствами она назвать не могла, но ощущала эту приязнь отчетливо.
А в Москве это ощущение являлось ей лишь редкими промельками. Вот как здесь, в Лефортове.
Когда она вышла из метро, зарядил мокрый снег. Для Москвы снег в середине октября, может, и рановато, но на Каме Вика к такому привыкла, не считала это суровостью природы, да и вовсе не обращала на осенний снег внимания.
И вдруг в лицо ей ударила такая огромная мокрая плюха, что она захлебнулась и закашлялась. Но главное, одновременно с плюхой ее толкнуло в бок так сильно, что она вскрикнула и упала в придорожную лужу.
Выплюнув грязь и протерев глаза, Вика успела разглядеть массивный зад машины, которая лихо отъезжала рядом с нею от обочины. Эта-то машина и обдала ее грязной жижей с ног до головы, толкнув вдобавок бампером. Заодно Вика разглядела и номер, полузалепленный брызгами. Правда, непонятно, чем ей этот номер мог пригодиться: не догонять же нахала с требованием извиниться за саднящий бок и изгаженное химической московской грязью пальто.
В Крамском половина из проходящих мимо людей подбежали бы к ней, спрашивая, что случилось, не ушиблась ли, не сломала ли чего, стали бы поднимать с асфальта и предлагали бы вызвать «Скорую». Здесь не подошел никто. Впрочем, Вику это уже не удивляло. Она в первые же дни после своего приезда отметила это странное московское не равнодушие даже, а просто нелюбопытство. Когда в метро стало плохо пожилому мужчине и он, хрипя, упал на пол, никто не бросился к нему хотя бы с расспросами, не говоря уже – с предложением помощи. Пока Вика пробиралась к нему из другого конца вагона, один из пассажиров нажал кнопку связи с машинистом и попросил вызвать врачей на следующую станцию.
Вику так поразила эта история, что она не удержалась и рассказала ее Анне с пентхаусом и «Бентли», к которой как раз ехала в тот день.
– Это Москва, детка, – усмехнулась Анна. И объяснила: – Нам здесь каждый день приходится иметь дело с тучей народу. Если на каждого кусок жизни тратить, что на себя останется? Элементарная самозащита. – И, заметив по Викиному лицу, что такое объяснение не кажется ей убедительным, поинтересовалась: – А тебе что, требуется сочувствие посторонних людей? Мне, например, совершенно нет.
Вике не только сочувствие, но даже внимание посторонних людей никогда не требовалось. Но…
– Но это не важно, требуется мне или не требуется, – сказала она. Ей трудно было объяснить, что же вызывает у нее отторжение, она подыскивала для этого слова. – Пусть они мимо меня как мимо стенки проходят, я только рада буду. Но тут же совсем другое…
Какая-то черта, общая для всех больших городов мира, была в Москве перейдена. Какая-то естественная для мегаполиса мера взаимной жесткости и жестокости была превышена. Это невозможно было считать нормой, Вика чувствовала. Но точно так же чувствовала она: в этом городе, который и понятен ей, и чужд одновременно, добавилась для нее еще одна деталь в конструкцию жизни, которую она не может изменить. Еще на одну деталь этой новой жизненной конструкции ей остается просто не обращать внимания. Если она не хочет сойти с ума.