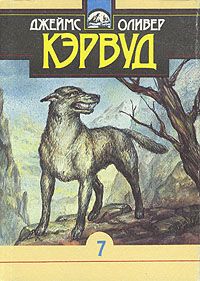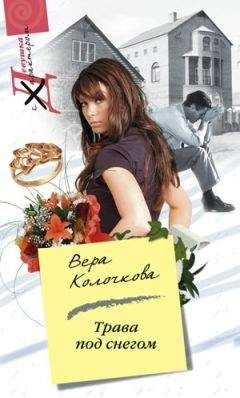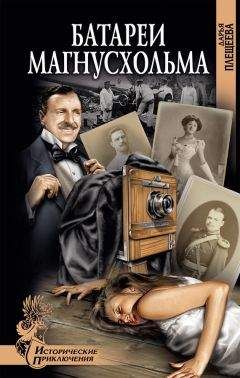Напевая, она мчалась по московским улочкам, толкая перед собой коляску с бледным молчаливым родственником, в ближайший парк, где робко шелестели старые липы и блестел мутным зеркалом старый пруд. Гриша, разумеется, не единожды подвергался риску быть опрокинутым или задавленным машиной во второй раз – Леночка правила передвижения по улицам соблюдала редко, но больной никогда не делал замечаний своей резвой опекунше. А крыши с тех пор, как начался эксперимент, юную сиделку больше не привлекали, к великому счастью родных и близких.
Вероятно, девочка считала Гришу чем-то вроде большой куклы, и игра в дочки-матери забавляла ее. Гришины мизантропии куда-то отступили – столько адреналина выбрасывалось в его кровь, когда сумасбродная девчонка толкала его легкую немецкую коляску, добытую с огромным трудом тетей Мариной, вперед, в опасную пустоту.
Потом, когда летние каникулы кончились и пришла пора отправиться в очередной класс среднеобразовательной школы, Лена заставляла своего безответного родственника делать за нее уроки. Училась она из рук вон плохо, испытывая интерес только к рисованию – весь дом был заполнен ее шедеврами, изображавшими в основном цветочные букеты. Только в художественной студии ее хвалили.
– Айда на натуру! – говорила она Грише и, не дожидаясь ответа, вытаскивала его в парк, расцвеченный буйными осенними красками. Она рисовала полузасохшие хризантемы на клумбах и яркие кленовые листья.
Со сверстниками Елена почти не общалась – мало кто мог терпеть ее взбалмошный, переменчивый характер. В подругах у нее ходила лишь некая Нюра, рыхлая девочка с длиннейшими, пшеничного цвета косами, но Нюру вообще трудно было чем-либо достать, Леночкины закидоны мало ее трогали. Она покорно сопровождала подругу во всех ее походах, флегматически созерцая окружающий мир. Но главным Леночкиным другом являлся Гриша – он неподвижно сидел в своем кресле, пока его племянница рисовала лихорадочные, сумасшедшие букеты, и бог знает о чем думал. А Нюра степенно бродила рядом, совершая полезный для здоровья моцион.
– Ну как? – оживленно кричала Лена, отрывая от мольберта очередной шедевр.
– Неплохо, – кивала головой Нюра. – Надо застеклить – и в рамку, на стену.
– А как тебе, Гриша?
Она никогда не называла его дядей. К его печальному, утомленному лицу никак не подходило это коммунальное слово – нельзя назвать «дядей» того, кто был похож на беспомощного ребенка.
И Гриша в ответ молча кивал.
– Почему ты молчишь? Почему ты все время молчишь? – сердилась Лена. – Скажи что-нибудь критическое!
На плотном листе ватмана цвели оранжевые ноготки, сквозь увядающую траву чернела земля. Потом, много лет спустя, разбирая свои детские рисунки, Елена вдруг поняла, почему Гриша не отзывался на ее сердитые требования – в ее цветах на черной земле было что-то кладбищенское, печальное и страшное одновременно, так буйно могли цвести лишь цветы на могиле. Но о смерти в семье не говорилось, это правило строго соблюдалось – у всех еще были живы воспоминания о тех трех попытках, на которые решился Гриша.
– Почему бы тебе ни нарисовать человека? – спрашивала рассудительная Нюра.
– Портреты мне не очень удаются, – манерничала Леночка. – Мой учитель, Семен Львович, говорит, что моя стихия – натюрморты. Здесь я бог. Знаете, неживую природу гораздо сложнее писать, ведь в ней тоже есть душа, которую чрезвычайно трудно уловить. Натюр-морт – мертвая природа в переводе. Но это неправда, что она мертвая. Семен Львович говорит, что в моем мазке есть что-то от Гогена – яркость красок, сочетание несочетаемого…
– Нельзя себя хвалить, – осуждающе говорила Нюра. – Это нескромно.
– Брось, Нюрка, я просто объективно освещаю реальность!
– Чего-чего?
В такие моменты Григорий обычно улыбался – задорное самолюбие Леночки всегда ободряло его. Как бы банально это ни звучало, улыбка необычайно красила его лицо, морщинки печали и страдания исчезали. Словно солнышко выглядывало из-за горизонта, освещая хмурую холодную землю.
– Ты такой красивый, Гриша! – хлопала в ладоши его племянница. – Нюрка, посмотри, какой Гриша красивый! Нет, пожалуй, тебя я все-таки напишу…
– Улыбайтесь чаще, – энергично советовала Нюра. – И меня нарисуй, Леночка, я твой рисунок застеклю и повешу в рамку.
Лена хватала бумагу, краски, пытаясь скорее ухватить последний солнечный луч. Но выходила какая-то ерунда – Гриша на ее рисунках выглядел как отечественный киногерой, только что совершивший подвиг.
– А что, очень похоже, – пыхтела из-за плеча Нюра.
– Нет, не то. Ужасно банально! – Лена комкала лист, отбрасывала его в сторону.
– Мусорить нельзя! – Подруга подхватывала скомканную бумагу, тащила ее к урне. – И чего ты привередничаешь…
– Портреты мне определенно не удаются.
– Нарисуй меня, вот увидишь – у тебя точно получится, а я застеклю…
– Гриша, я бездарность?
Гриша бледно улыбался и произносил меланхолически:
– Все суета сует и томление духа…
– Гриша, а что такое томление духа?
По малолетству своему и общей необразованности Леночка не умела толковать слова с энциклопедической точностью, их смысл являлся ей в каком-то смутном, красочном виде – зыбкие контуры, заполненные неким цветом. Она еще не могла ничего точно знать, а только подозревала, что за ними что-то скрыто. Но слова «томление духа» вызывали у нее определенные ассоциации – она сама начинала томиться, как молоко в печке, душа замирала тоскливо и испуганно, словно предчувствуя нечаянную радость.
Иногда она садилась перед Гришей на корточки и подолгу вглядывалась в его лицо. Такие «гляделки» не были ему неприятны, но всегда вызывали удивление:
– Чего ты ищешь во мне, Леночка?
– Я любуюсь. Недавно мы с группой ходили в Пушкинский музей, и Семен Львович нам много рассказывал про картины, про всяких там святых и про Давида, который убил Голиафа. Ты эту историю знаешь?
– Примерно. А я что, похож на Давида?
– Нет, на кого-то другого, не помню. Я говорю о том, что людьми можно тоже любоваться, как картинами.
– И что же во мне такого особенного? – усмехался он.
– Вот это я и пытаюсь понять…
– Я самый обыкновенный человек, Елена.
– В тебе есть тайна, – серьезно говорила она, – и я пытаюсь ее понять. А почему ты называешь меня Еленой, как взрослую?
– Потому что ты Елена, а не Алена, Леночка или Ленка. У тебя только одно имя, а всякие производные от него тебе не подходят. Они какие-то исковерканные, уродливые…
– Что такое «производные»? А вообще, ты прав, я сама нечто подобное чувствую, – важно соглашалась она. – Вот взять, например, Нюрку. Ее только Нюркой и можно назвать, а не Аней или Анюткой. Производное может быть главным именем? А у тебя какое главное имя?