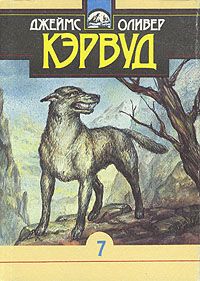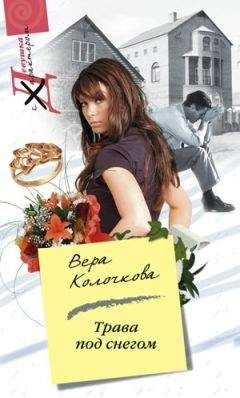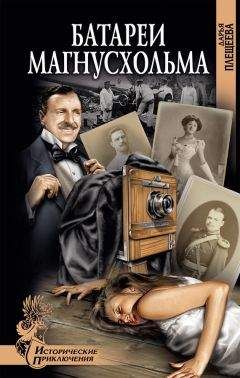– Ну, не знаю… – с сомнением тянула Леночка. – Раньше же ты со мной не гулял! – Она имела в виду те времена, когда Гриша был здоров и едва вспоминал свою племянницу.
– Я был дурак. Такая славная девчонка, вредная пигалица и капризуля, любительница критического реализма… Кстати, я не помню, раньше ты тоже рисовала?
– Я всегда рисовала!
– Надо же, а я не помню… А что ты будешь делать зимой? Зимой же нет ни цветов, ни листьев…
– Чтобы рисовать цветы, необязательно их иметь перед глазами. У человека есть голова, есть воображение, – нравоучительно произносила она. – Хотя ты прав, это время года не самое лучшее для меня. Буду изображать кактусы на подоконнике и фрукты, которые мама принесет с рынка. Мандарины, апельсины… Натюр-морт. Мертвая природа, которая совсем не… «Морт» – какое короткое, страшное слово, – она болтала, почти не задумываясь. – «Невермор» – тоже страшно, потому что «никогда». В русском языке тоже очень много таких слов, которые говорят сами за себя, но по-иностранному они звучат загадочнее, словно заклинания. Но ты не любишь цветы.
– Почему, люблю. Только бы я не их рисовал, а что-нибудь…
– Что? Ну что? А зимой – белый снег, да?
– Да, – грустно соглашался он. – Снег тоже можно нарисовать.
– Можно, но слишком скучно…
– А, я знаю – ты любишь яркие цвета, чтобы от них глаза резало!
– А ты?
– Я поклонник черно-белых фотографий и неявно выраженных сюжетов.
– Потрясающе! Это как?
Он пожимал плечами:
– А так. Очень просто. Я же говорю – белый снег.
– И все?
– Нет, еще я бы нарисовал черные деревья на его фоне. Какой-нибудь старый пенек, выглядывающий из сугроба, собачьи следы. Дом с отсыревшими стенами…
– Это же явное отсутствие сюжета! – строго восклицала Леночка. – Но все равно – ты, оказывается, тоже поклонник пейзажа. Натуры. Людей бы на твоих картинах не было?
– Нет. Ну только так, со спины, издалека…
– Понимаю, – серьезно кивала она, уже совершенно забыв о Достоевском. – А что-нибудь на летние мотивы?
– Тоже можно. Я рисовал бы то, что видел каждый день, с чем сталкиваемся мы с тобой по дороге в парк, что я замечаю у себя под ногами, – забитый водосток, старую консервную банку, рассохшуюся дверь в подвал…
– И все в черно-белом цвете?
– Да, – просто отвечал он.
Леночка была окончательно растеряна и смущена. Подобные темы для рисунков никогда не приходили ей в голову, для нее окружающий мир полыхал яркими красками и был заполнен цветами, которые росли, казалось, даже на снегу.
– А перспектива? Солнце, горизонт, бесконечная даль неба, запрокинутая голова…
– Елена! – мягко прерывал он ее. – Ты что, забыла? У меня нет перспективы. Для меня реально лишь то, что я вижу у себя под ногами, когда сижу в коляске, для меня реальность – это асфальт, по которому я качусь…
– Гриша! – Охваченная внезапным порывом сострадания, она бросалась к нему, утыкалась лицом в его ладони. – Ты больше так не говори, не надо, а то я плакать буду… Весной тебе сделают операцию, ты встанешь на ноги, и мы будем вместе бегать по нашему парку! Нет, ты можешь даже опять забыть обо мне, работать, заниматься своими делами… Что угодно, я все равно буду рада за тебя! Тетя Марина говорила о профессоре Борисове, который творит чудеса…
– Ты веришь в чудо?
– Ну да! – с искренним недоумением возмущалась она. – А ты – разве нет?
…Прошла зима, и в середине апреля профессор Борисов, о котором столько говорилось в их семье, наконец взял к себе в клинику Гришу. Чего это стоило тетке, Леночка не подозревала; бедная женщина, вконец измученная своим двойственным положением, всеми правдами и неправдами добилась направления на операцию. Борисов был известным на всю страну нейрохирургом, на него возлагалась последняя надежда. Правда, он заявил Гришиной жене, что операция либо поставит Гришу на ноги, либо окончательно убьет его.
Гришу увезли. Он наспех попрощался с Леночкой, и она, твердо уверенная в его выздоровлении, стала ждать. Для нее, еще ребенка, не существовало историй, которые плохо кончались. Для нее чудо было реальностью.
Гриша тихо умер после операции, даже не приходя в сознание. И у Леночки его смерть вызвала такое огромное изумление, что она даже не плакала на его похоронах, вся поглощенная мыслями о том, как же такое могло произойти. Тетя Марина, вся в черном, монотонно сморкалась в платок на поминках, а гости за поминальным столом успокоенно шушукались – отмучилась, бедная, освободилась наконец. То же самое говорили и о Грише. Остолбенелая Леночка ковырялась в селедке под шубой, пила газировку и что-то бормотала себе под нос. Жизнь была черно-белой, и никаких красивых сюжетов в ней не наблюдалось.
Спустя год тетя Марина вышла замуж и скоропостижно родила ребенка, очень славного, похожего скорее на куклу, чем на живого человечка. Леночка, уже дурнушка-подросток, обожала своего двоюродного братца. Она так самозабвенно его тискала и баюкала, что тетя Марина прибегала спасать младенца, бросив все дела:
– Ленка, ты его задушишь! – с ужасом кричала она, заглушая вопли ребенка, и вырывала его из Леночкиных рук.
Новый муж тети Марины работал директором автосервиса. Все были счастливы.
Конечно, Леночка переживала смерть Гриши, но в ее переживаниях было больше недоумения, чем истинного страдания, сама любительница достоевщины и прочих психологических вывертов долго тосковать не умела. Она закончила школу, стала серьезно заниматься художественным творчеством, у нее вдруг появилась куча новых друзей – рыхлая Нюра отошла на второй план – и даже поклонников. По-прежнему энергичная и взбалмошная, она похорошела, повзрослев, и продолжала все так же рисовать мертвую природу.
Она не верила ни во что до конца серьезно, наученная своим детским опытом и болтовней с Гришей обо всем на свете. Только одно слово она старалась не произносить, потому что не верила в него и считала пустым. Потому что в нем ни цвета, ни света – один голый контур из букв.
– Разумные люди не должны верить в эту чепуху! – надменно заявляла она своим подругам.
Однажды в конце июня, после летней сессии, она бежала домой – по небу ползли сизые тучи, а зонтик, как всегда, был где-то оставлен. На половине пути с неба полил сплошным потоком горячий ливень. Лена успела забежать под козырек какого-то дома. Поджимая ноги в легкомысленных босоножках, она долго стояла у чужого подъезда: идти дальше не представлялось возможным – дождь хлестал так, что дороги не было видно, потоки грязи текли со всех сторон. Ей было скучно, без дела проводить время она не могла. В сумочке лежал обрывок тетрадного листа и простой карандаш – присев на корточки, Лена стала рисовать блестящие мокрые камни, валявшиеся возле подъезда, и чахлую траву, которая упрямо пробивалась сквозь камни.