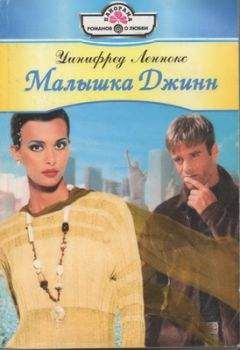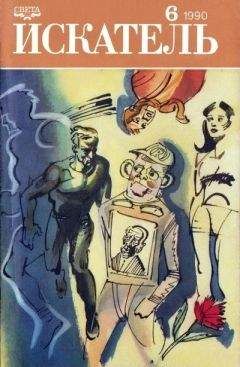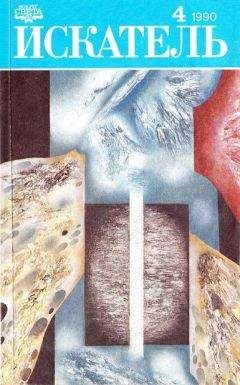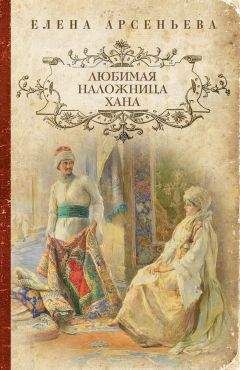Билл улыбнулся.
— Тогда тебе тут придется долго просидеть.
— А мне здесь нравится. Я здесь как дома.
— Знаешь, Джинни, давай-ка нарвем ягод и отвезем матери.
Они собрали с куста ягоды и потом каждое лето приезжали сюда за ними. Этот куст жимолости стал называться «жимолость Джинни».
И вот, когда Джинни исполнился двадцать один год, они собрались втроем за столом — всех детей собрать было невозможно. Вот тогда-то Билл достал талисман и подал его дочери со словами:
— Джинни, это тебе посылает твоя любимая жимолость.
Она взяла цепочку с орлом, и ему показалось, в глазах ее что-то мелькнуло. Какая-то тень, будто Джинни силилась что-то вспомнить, но никак не могла.
Марсия отвернулась, глаза ее наполнились слезами.
— Индейский орел. Я видела такого... Таким его изображает народность шаста.
Билл спокойно кивал.
— Да, этот так. Они давно живут близ горы Шаста. У племени теперь свое поселение. Ты ведь знаешь, правительство заботится о национальных меньшинствах, как может, помогает сохранять их культуру, обычаи. В поселке народности шаста построены новые дома, у них даже есть свои историки и архивариусы. Свой музей. Довольно удобная жизнь. Но индейцев лишили главной привилегии в жизни, которой они пользовались веками, — свободы.
— Спасибо, отец. Я буду всегда носить этот талисман как память о Скотт-Вэлли, о моем родном доме. О моей любимой жимолости.
После этого Билл ощутил странное освобождение. Как будто выполнил поручение, неизвестно кем данное ему. Он по-прежнему любил Джинни, как и всех остальных детей. Но больше он не тревожился за нее так сильно, как прежде. Потому что раньше Биллу казалось, что кто-то придет и отнимет ее, уведет...
На этот раз он просто постоял возле жимолости, словно попрощался с ней, и теперь она уже не была для него особенной. Теперь это просто огромный куст жимолости, каких много в Скотт-Вэлли.
Билл был доволен тем, как сложилась судьба Джинни. Девочка получила прекрасное образование — он не пожалел денег на ее учебу — и сейчас прекрасно устроилась в Вашингтоне. Наверное, им с Марсией стоит поехать в столицу и посмотреть, как там их дочь. Он вообще никогда не бывал в Вашингтоне.
Нравилось ему и то, что она учится граверному искусству. Билл понимал толк в красоте, как каждый, кто когда-нибудь держал в руках настоящее ружье. А он держал.
Старый траппер ухмыльнулся. Однажды он отдал за испанскую двустволку столько... Хорошо, что Марсия не знает. Тогда он не пожалел восемь шкурок бобра. Потому что его пленил журавль, который был изображен золотой насечкой на колодке.
Может быть, он когда-нибудь получит в подарок ружье от малышки Джинн, которое она сама распишет. Ей-Богу, она наверняка изобразит на нем этот куст жимолости. Не может не изобразить. Это ведь ее родной куст, «жимолость Джинни».
И все-таки Билл не мог ничего с собой поделать и не раз возвращался к мысли: кто же родители малышки Джинн? Кто ее настоящие отец и мать? И кто она сама — дитя порока или дитя любви? Или дитя трагедии, которая разыгралась в этих местах?
Мог ли подумать Билл Эвергрин, что мысли другого мужчины то и дело возвращаются к этим местам? Что они мучают его и изводят? И что он тоже не может от них избавиться? Хоть и старается всеми силами, которые, похоже, уже на исходе.
Карен не понимала, что творится с Майклом. В последнее время тревожная тень все чаще пробегала по его лицу. Он казался утомленным, измотанным. И очень торопил ее с выставкой.
— У меня нет времени. Мне нельзя опоздать...
— Майкл, но кто установил тебе сроки? Надо подготовить все как следует. Джинни обо всем договорилась в Париже. Скоро появятся статьи в газетах...
— Зря я согласился на Париж. Я хотел начать с Пекина, но ты уговорила меня! — Он почти кричал.
— Но это неразумно, Майкл. Это же Китай! А в Париже ты начнешь с успеха.
— Ты ничего не понимаешь. У меня нет времени, я нарушил все сроки!
— Да кто тебе их установил?
— Я сам.
— Слушай, но если тебе нужны успех и деньги прямо сейчас, незачем было ввязываться в такой громоздкий и сложный проект.
Он посмотрел на Карен дикими глазами.
— Это не твое дело, понятно?
Она молча вышла из комнаты. Майкл стоял перед холстом и смотрел на огромный глаз, проступавший сквозь красно-синие линии. Правый глаз Леди Либерти. Левый он уже написал, тоже на холсте четыре фута на четыре.
Как он ни старался, ничего не смог поделать — опять получились ее глаза. Чуть раскосые. Незабываемые глаза. Он строил большую женщину, моделью которой взял Карен, но на полотнах проступали черты другой. Но Майкл знал одно — как только он завершит проект, наваждение исчезнет.
Сколько можно себя терзать? Ведь трагедия случилась много лет назад, и не в его силах было предотвратить ее. Он не позволял себе вспоминать детали случившегося. И уж тем более кому-то рассказывать. Как не мог он и уехать из этих мест. Будто она, Элен, заставляла его остаться здесь, выстроить индейский дом и поселиться в нем. И если бы не Карен, остановившая продажу усадьбы, он бы так и поступил.
В Карен, большой, сильной Карен, с которой он познакомился через галерею Тины Пазл, он увидел свое спасение и уцепился за нее обеими руками. Но ему все равно придется выполнить клятву, которую он себе дал.
Он выполнит ее. Закончит проект, а все вырученные деньги отдаст детскому приюту. Куда же еще мог попасть их ребенок? Наполовину индейский ребенок?
Глава девятая
Вот тебе золото, вот серебро...
Генри Мизерби сидел за столом в своем офисе и листал книгу. Подумать только, малышка Джинн все-таки написала ее! Великолепные иллюстрации. Какие прелестные гравюры! Какую огромную работу проделала эта американская девчонка! А здесь, вот это да! «Эскиз гравюры для правой плоскости колодки охотничьего ружья двенадцатого калибра. Автор Джинни Эвергрин».
Генри восхищенно рассматривал стилизованного орла, парящего среди легких облачков. А поле колодки она покрыла виньетками, похожими на листья жимолости. Наверное, ее вдохновила родная долина Скотт-Вэлли. Как-то на досуге Генри полез в энциклопедию, прочел статью о Скотт-Вэлли и сделал вывод: Джинни Эвергрин — настоящая деревенская девчонка. Но как она продвинулась, заметил он, с каким упорством пробирается в общество, в котором он сам оказался очень легко — по рождению. Собственно, его самого и родили-то ради дела. Для продолжения семейного бизнеса нужен был наследник. И вот он, Генри Мизерби, собственной персоной.
А какую надпись, — он ухмыльнулся, — она сделала на книге: «Генри, я все помню. Я твой должник».