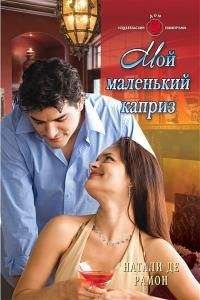В предрассветном сумраке зрелище нищеты было просто невыносимым! Еще вчера их быт и традиции интересовали меня лишь с точки зрения посетительницы музея под открытым небом. Но это живые люди, и они так живут. «Молочные верблюдицы»… Для европейцев традиции — всего лишь некий, порой забавный элемент праздника и вовсе даже не обязательный. Но уж никак не безысходный образ жизни!
Я влетела в шатер, схватила камеру, вымелась наружу. Девчушки тут же уцепились за мои брюки. Зейнаб устало смотрела на них. Небо из темно-синего сделалось уже светлым с розовато-лиловой полосой на горизонте.
— Джамиля джиддан, — напомнила Зейнаб, показывая на небо и на камеру в моих руках.
Я кивнула и направилась за шатры в пустыню. Зейнаб и девочки пошли следом. Я включила камеру и решительно протянула ее Зейнаб, давая понять, что хочу, чтобы снимала она. Она растерянно попятилась, но я настаивала. Девчушки определенно поняли мое намерение и радостно запрыгали, тоже уговаривая свою мамашу действовать смелее.
Наконец она прошептала:
— Бисми Аллах!.. — взяла камеру и, робко косясь на меня, занялась съемкой.
Я смотрела на нее и видела, что ей ужасно нравится это занятие. Потом мы все вместе отсматривали на экранчике то, что она сняла — девчушки просто визжали от восторга! — и я все думала: почему ради каких-то традиций эта Зейнаб с явными художественными способностями и необыкновенно находчивым талантом общения вынуждена до конца жизни прозябать здесь?..
Девочки захотели еще раз посмотреть мамино кино, и я перегнала назад, но не рассчитала и попала на кадры, где мой принц рассказывал о верблюдах. Это выходило у него слишком интимно, и я хотела тут же перекрутить дальше, но мои приятельницы явно заинтересовались:
— Эмир! Эмир! О эмир! — И Зейнаб, присев, начала пальцем рисовать на песке.
Я терпеливо ожидала, что ее эскизы опять сведутся к моей фигурке с животом, но, похоже, речь пошла о семье эмира — о его старшем брате и потомстве того.
Тонкий смуглый палец руки с изобилием серебряных колечек и позвякивающих браслетов чертил на песке фигурки. Отяжелевший, еще ночной песок был влажным, и «анимация», окрашиваясь цветами рассвета, будто оживала.
Кружок-головка, два кружка пониже — груди, затем палочка-талия, и кривая намечает округлые бедра и одновременно — раздвинутые ноги рожающей женщины, между которыми чуть ниже появляются фигурки поменьше с женскими или мужскими половыми признаками, и мелодичный, чуть хрипловатый голос Зейнаб называет их имена, а потом ее пальцы разметают на песке фигурки умерших.
У Эльнары и у Зейнаб примерно в одно время родились дочки — Зейнаб показала на свою младшую, — и в то же самое время и тоже девочку родила жена брата нынешнего эмира: между раздвинутыми ножками фигурки по имени Тамиля появились по очереди три маленькие мужские фигурки и одна крошечная женщина, кормилицей которой и стала удачливая Эльнара, потому что у той был первый ребенок, а у самой Зейнаб уже имелась еще одна дочка и старший сын, и одного ребенка вырастить без матери легче, чем повесить на семью троих. Теперь Эльнара живет во дворце — смуглый палец нарисовал на песке дворец в виде прямоугольника с башенками и куполами, — и все ей кланяются — Зейнаб театрально изобразила, как все кланяются Эльнаре, а сама же Зейнаб навеки осталась здесь — она показала на себя и с выражением безнадежности обвела рукой вокруг. Получалось, что, снимая рассвет над пустыней, Зейнаб тоже думала о том, почему она не может вырваться отсюда, как вырвалась ее удачливая кузина.
Тем временем стало уже достаточно светло, и я дала понять Зейнаб, что хочу записать на камеру ее «письменность», если она не возражает. Зейнаб закивала, заулыбалась и, переместившись в сторону от готовых рисунков, принялась уверенно повторять свой рассказ так, как если бы дубль был для нее привычным делом. Смуглая рука рисовала на песке, позвякивали браслеты, чуть хрипловатое контральто гортанно называло имена.
Девчушки, в обнимку присев на песок, очень серьезно наблюдали за матерью, которая словно священнодействовала, записывая на бескрайнем полотне пустыни летописи рода: вот мужчина, вот женщина, которая рождает новые поколения. Кто-то живет дальше, кто-то растворяется в песке под ее рукой.
Я старалась снять так, чтобы на общем плане в кадр на фоне бескрайнего горизонта с медленно взмывающим солнечным шаром попадали лишь фигуры Зейнаб и ее девочек. Мать и дочери, дающие продолжение жизни.
Глава 16, в которой сел аккумулятор
Я вытащила его из камеры и попыталась знаками сообщить Зейнаб, что теперь нужно сходить в лагерь военных, чтобы его зарядить, и заодно от них по радио можно поговорить с эмиром. Не уверена, поняла ли она насчет аккумулятора, но идею переговоров с эмиром одобрила: мы же сможем узнать, как дела у Нурали. Только сейчас очень рано, нужно сначала поспать и пойти попозже, когда военные тоже встанут.
Мы вернулись в мой шатер, и Зейнаб стала готовить постели, не позволив мне ей помогать. Девчонки обнаружили на столе забытую мисочку со сластями и радостно их уплели. Потом вместе с матерью, не раздеваясь, они улеглись ближе к входу, и буквально через минуту я уже слышала, как они все ровно дышат во сне.
«Ренджровер» мягко катит по пустыне. Рация молчит, а мой принц смотрит только на меня, вместо того чтобы смотреть на дорогу. Я хочу сказать: «Осторожнее, мы можем врезаться», — но не говорю, потому что кругом только песок и врезаться во что-то просто невозможно. Он убирает руки с руля, машина продолжает двигаться, мягко покачиваясь, как лодка. И уже никакой машины больше нет, а только яркий ковер, окруженный хороводом светильников, и мы лежим на этом ковре.
Пальцами он осторожно отводит волосы с моего лба и шепчет: «Ты такая красивая»… Я хочу сказать, что на самом деле если кто и красив, то именно он, но не могу произнести ни слова. Он откидывает концы своей белой куфьи. В чернущих глазах с длинными густыми ресницами светится тайна. Я поднимаю руку, сбрасываю с него эту дурацкую куфью и играю пальцами в его волосах, его же пальцы начинают расстегивать пуговицы моей блузки.
Он целует мои губы! Их обжигает огнем, и я впиваюсь в его рот. Меня бьет дрожь, его руки обнимают и ласкают меня, а его губы касаются уже моей груди. «Любимая! Любимая моя»! — шепчет он и отстраняется. Его слова звучат музыкой, а я уже совершенно без одежды! Он целует меня всю и нежно гладит, и я задыхаюсь от счастья, и мне кажется, что я уже не смогу вынести большего наслаждения, чем дарят его губы и руки, но вдруг врывается громкий стрекот вертолета, и мой принц что-то шепчет. Я не могу разобрать слов в этом грохоте, просто понимаю, что ему пора уходить, и хочу крикнуть: «Нет! Нет! Не бросай меня!» — но уже просыпаюсь.