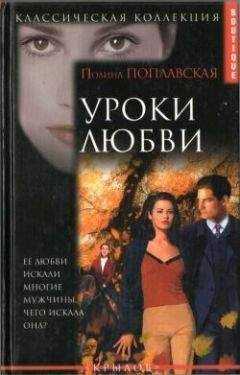И влажное дыхание коснулось ее затылка.
* * *
Капли мерно и дробно стучали над головой, и Джанет скорее догадалась, чем услышала:
– Сядь. Вон туда.
Она покорно опустилась на середину выложенного матами круга, а Милош, подтянув колени к подбородку, устроился на расстоянии вытянутой руки. Молчания не было, была тишина. Тишина, за которой таится бездна.
– Сними пальто. Это студия – здесь тепло. – Его голос долетал до нее еле слышно, словно говорящий стоял на другом берегу широкой полноводной реки. Джанет плохо слушающимися пальцами расстегнула пальто и на секунду растерялась, не зная, куда его положить.
– Сюда, – Милош указал на пустое пространство между ними.
И только оставшись в тонком пуловере, Джанет почувствовала, что в студии не просто тепло, а жарко, как в оранжерее, и что от нее исходит тонкий и острый запах пота. По лицу ее пошли красные пятна, но, скосив глаза, она увидела, как жадно раздуваются ноздри Милоша, придавая ему сходство с породистой легавой, почуявшей дичь.
– И свитер. – Свитер опал большим мыльным пузырем. – Футболку. – И маленькие, мягкие от жары соски на секунду сверкнули розовым, пока девушка не прижалась грудью к согнутым коленям. – Ботинки. – Эту часть одежды Джанет не рискнула положить в общую кучу и просто отодвинула в сторону. – Юбку. – Черное букле соскользнуло вниз, но для этого пришлось подняться, и на какое-то мгновение Джанет словно со стороны увидела себя, по-детски нелепую с голой грудью и в разноцветных колготках толстой вязки, и потому стянула их, не дожидаясь его слов. После этого Милош, уже молча и совсем отвернувшись, просто протянул руку, в которую невесомо лег алый лоскуток.
И вот она, оглушенная шумевшей в голове кровью и стыдом даже не столько за свое беззащитное тело, сколько за дикое, совершенно непонятное ей поведение Милоша, сидела перед разделявшим их ворохом одежды в классической позе обнаженной: закрытая руками грудь и сомкнутые, боком положенные колени. А напротив, судорожно сминая в руках последнее, что было ею снято, сидел, не раскрывая глаз и тщетно пытаясь унять дрожь, тот человек, к которому она так рвалась эти последние полтора года. И он не касался ее.
А Милош, раскачиваясь, как от боли, вел с собой мучительную борьбу, о которой не подозревала, да и не могла подозревать Джанет. Как человек, вкусивший уже черных плодов разврата, он едва не терял рассудок, представляя, что он может сделать сейчас с этим золотистым хрупким телом, но как искренне любящий хотел лишь самого простого, самого нежного слияния, без стонов, без криков…
Он хотел припасть к ее телу, как к роднику, как к чаше с напитком, который даст возможность стать прежним, чистым, не ведающим свирепых чудовищ пола. Потом у него мелькнула мысль сейчас же встать и выбежать, не раздумывая ни о каких последствиях, но его налившееся силой естество, казалось, стало каменно-тяжелым и не давало ему подняться с матов.
– Дай твою ногу. – Так и не раскрыв глаз, он на ощупь поднес к губам протянутую, чуть дрожащую от напряжения ножку с длинной узкой ступней и облупившимся лаком на маленьких ноготках. Джанет инстинктивно зажмурилась и долго не чувствовала ничего, кроме сухого горячего дыхания, опалявшего ее лодыжку и пальцы. Но вот пересохшие губы побежали вверх, ощупывая напрягшуюся тугую икру… – И другую, – услышала Джанет его еле слышный голос.
Чтобы удержать равновесие, она невольно отклонилась назад, опираясь на руки, и чуть раскинула ноги, пространство между которыми оказалось закрытым лежавшей между ними горой одежды. А по ее ногам бежали языки пламени, и это продолжалось долго, бесконечно долго, так что у нее затекли руки и устала поясница, но, стараясь освободиться от этого огня, она лишь все ближе придвигалась к Милошу и все плотней прижималась плотью к шерстяному пуловеру. И это было невыносимо. Джанет боялась открыть глаза – ей казалось, что ее бедра стали огромными, бесконечно широкими, а пуловер намок от истекавшей из нее влаги, и она с ужасом думала, что эта влага – кровь.
– Я больше не могу, Милош! – вдруг выдохнула она, сама того не желая. И на миг пришло облегчение, пламень угас и воздух хлынул, охлаждая воспаленную кожу – но только на миг, ибо прикосновение мягкой шерсти сменилось скользящими ударами языка, не знающего ни запретных глубин, ни пощады, и холодком зубов, от которого все внутри обрывалось от сладкого страха. – Я… не… могу… – снова прошептала Джанет, чувствуя, что сейчас руки ее подломятся, она упадет навзничь и, наверное, потеряет сознание.
– Повтори, – как из другого мира донесся до нее бесцветный, как бумага, чужой голос. – Повтори.
– Не могу-у-у! – уже пронзительно, во всю оставшуюся силу крикнула она. И тогда резкая боль, боль без всякого блаженства, прорезала ее бедра, и тут же раздался крик на незнакомом языке. Это Милош, забывшись и, может быть, уже забыв, кто перед ним, упал на нее всей тяжестью своего тренированного тела, резко раскинув в стороны сжимавшие ее лодыжки руки. Джанет хотела крикнуть, но ее рот, словно расплавленным сургучом, уже запечатан другим ртом, выгнутые плечи притиснуты к мату, а на ее ногах и на разломленных пополам бедрах лежит свинцовая тяжесть других бедер, и огненная струя рвется внутрь, почему-то то ослабевая, то усиливая напор, словно что-то ища, словно натыкаясь на что-то… А дышать невозможно и двинуться нет сил, и для того чтобы скорей прекратить эти мучения и умереть, можно только податься навстречу этой огненной струе… Джанет сделала это последнее усилие, и в ней вдруг разверзлась бездна, на секунду поглотившая и сознание, и чужую плоть, внезапно растворившуюся в ее внутренностях. Мир остановился и застыл. А когда движение вернулось, все стало иначе, вспыхнуло солнце, и высокие качели уносились в синее небо, и с каждым взмахом Джанет, как в детстве, смеялась и, ликуя, кричала: «Еще! Еще! Еще!»
И качели взлетали весь вечер, и всю ночь, и все утро, рассыпаясь в сверкающих огнях, растекаясь молочно-белыми реками.
И святой Николай с торжествующим кнехтом Рупрехтом[13] встретили их спящими под золотым покрывалом вьющихся волос, прядка которых нежно и празднично была обвита вокруг и во сне цветущего крупным пурпурным цветком дерева.
* * *
Но день все-таки наступил, хотя, приподняв налитые нежной тяжестью веки, Джанет не могла разобрать, день это, вечер или утро. Все тело ныло, растянутые связки болели. Свести ноги было просто невозможно.
– Вот было бы замечательно, – услышала она над собой голос Милоша, – если бы ты вообще никогда не смогла этого сделать.
Джанет рассмеялась:
– Наверное. Но сейчас давай поедем к тебе, я все-таки цивилизованный человек и хочу ванну и завтрак.