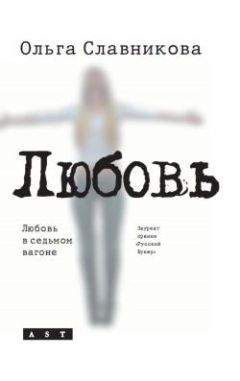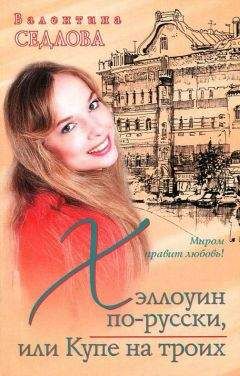– У Пуделя в доме оставалось много еды, – сбивчиво читала соседка, страшно смущенная прибавлением чужого и взрослого слушателя. – Пудель пригласил Кошку запрыгнуть к нему в окно. Кошка не хотела оставлять Бульдога. Но она подумала, что сможет принести Бульдогу еду и еще узнать, когда хозяева вернутся из отпуска. Но Пудель не хотел, чтобы Кошка продолжала дружить с Бульдогом. Однажды он встал у приоткрытого окна, зарычал и не пустил Кошку.
Вот, значит, как. Лора изменила из лучших побуждений. А Крашенинников думал, будто ей, скандалистке, некуда пойти из его квартиры, где фотографии на стенах теперь висели косо, точно сбитые в тире мишени, и под мебелью пылились невыметенные осколки битой посуды. Крашенинников бросался за Лорой в коридор, тряс ее за плечи, отчего на запрокинутом лице, испачканном, будто потеками смолы, дорожками слез, возникала та же неопределенная, смутная, лживая улыбка, что маячила ему во время зимней депрессии; он отбирал у Лоры кое-как набитый, закусивший юбку чемодан, сворачивал с ее ослабевших ног, крепко хватаясь за каблук, сырые сапоги. Странно: почему человек, как-то живший до тебя и справлявшийся с собственной жизнью, после кажется уже неспособным существовать самостоятельно? Но выясняется, что Лоре очень даже было куда податься. Шеф благополучно обитал в элитном коттеджном поселке, в нелепом массивном домище под черепичной крышей, удивительно похожем на корову под седлом. Крашенинников там однажды побывал на корпоративном барбекю и запомнил полосатые шелковые диваны на позлащенных козьих ногах, липкий столик поддельного малахита, сияющее пространство туалетной залы, посреди которой царил он, итальянский розовый унитаз, похожий на хищный цветок.
И что теперь? Куда, собственно, влечет Крашенинникова, сгорбленной спиной вперед, этот суетливый, словно задыхающийся поезд? Совершенно ясно, что Крашенинников больше не работает на фирме и грантодатели в Москве его не дождутся. За окном, за узкой полосой мелькания кустов и столбов, как-то сразу, без перехода, начиналось неподвижное лежачее пространство, на котором никак не сказывалась скорость состава: там гасли сумерки, замирали пологие холмы, светлело округлое озерцо, наполненное, будто глаз, горячей розовой мутью и выпуклой слезой. Впереди у Крашенинникова не было никакой цели. Неужто вся эта нелепая поездка была затеяна только для того, чтобы он узнал, наконец, тайну своей вероломной Кошатины?
– Ну, дальше! – прикрикнул Крашенинников на соседку, бормотавшую все тише и тише и, наконец, боязливо замолчавшую.
– Может, вы сами прочтете? – женщина, почуяв неладное, протянула ему злополучную книгу, раскрытую на какой-то цветастой иллюстрации.
– Ма-а-ам! Не-ет! – вредным голосом запротестовал пацан, и женщина, вздрогнув, закрыла ему рот жилистой рукой, отчего Крашенинников почувствовал себя террористом, взявшим в заложники мать и дитя.
– Читайте, пожалуйста, – попросил он, виновато улыбнувшись.
– Дружба Кошки и Пуделя длилась недолго, – продолжила женщина хрипло. – Сперва Пудель был очень рад Кошке и все время просил с ним поиграть. Но потом Пуделю стало жалко шелковых диванов и пуховых подушек, на которых раньше валялся он один…
Ну, еще бы! Глупая, глупая Лора! Она-то не видела особой разницы между домашним диваном и общественной парковой скамейкой. Никакого чувства собственности. Она была вот именно Кошка: если ее пускали в жилище, она считала его своим. Но шеф, собиравший золоченое благополучие по маленьким кусочкам, психовавший и подличавший, озлобленный на всех, кому вынужден был платить за работу какие-то деньги, мог ли он вот так вот запросто разделить свои диваны и камины неизвестно с кем? Он-то думал, что прихватил у слишком высокооплачиваемого сотрудника хорошенькую женщину-вещицу. Но оказалось, что женщина-вещица простодушно думает разделить с ним все, нажитое ценой собачьих седин. Господи, в этом была вся Лора! Внезапно Крашенинникова пронзило странное чувство. Он ощутил, что вот в эту самую минуту, когда за окном проносится шлагбаум с набыченной мордой КамАЗа и соседка переворачивает страницу, Лора где-то существует.
Он вдруг понял, что в реале, как и в Интернете, есть все. Прежде Лора была для него потерянной, исчезнувшей, почти нематериальной. Теперь она возникла снова, как не пропадала. Она уже не была его Лорой, но по-прежнему была его Кошкой. Эти глупые прозвища – они как заклятья, наложенные на человеческое сердце.
– Однажды Пудель искусал Кошку и выгнал ее из дома, – читала соседка, жалобно покашливая. – Кошка очень хотела вернуться к Бульдогу в будку. Но теперь она боялась Бульдога. Она думала, что Бульдог погонится за ней и разорвет на мелкие клочки. Теперь Кошка даже не могла уйти из дома через двор, который охранял Бульдог. Тогда Кошка полезла на крышу дома. Она долго и печально бродила по крыше. Она искала место, откуда могла бы перепрыгнуть на забор и снова пойти странствовать. Наконец, она нашла такое место. Внизу, очень далеко, валялись старые доски с торчащими гвоздями. У Кошки оставалось очень мало сил. Но она сжалась в комок, напрягла все четыре лапы и прыгнула.
Сначала Кошка стала падать. Она изо всех сил вращала хвостом и извивалась в воздухе, чтобы не упасть на доски. Но вдруг она почувствовала, что летит. Кошка, свободно раскинувшись в воздухе, поднялась над крышей, облетела трубу, потом устремилась вверх, перекувырнулась и потрогала лапой упругое облако. Она посмотрела вниз и увидела, что и Бульдог, и Пудель, и все зайчата, лисята, ежата смотрят на нее и хлопают в ладоши, а маленькие птички машут ей крылышками. Теперь все снова любили Кошку: она научилась тому, о чем мечтала…
Наступило молчание. Поезд несся с угрюмым тюремным грохотом. Дунул в сырую ночь, налетел и оборвался желтый, словно зарешеченный, встречный. Крашенинников сидел неподвижно, уставившись в неизвестную точку.
– Это конец, – несмело подала голос соседка.
– Да, спасибо большое, – прошептал Крашенинников, механически качая головой.
Прошло полтора часа. Соседка спала на верхней полке, неразборчиво причитая и всхрапывая, свесив углом измятую простыню; внизу сопел пацан, разрумянившись до самых соломенных ресниц, высунув из-под сбитого одеяла яблочную пятку. Крашенинников сидел все в той же позе: в одной руке у него была раскрытая детская книжка, в другой, выложенной будто для забора крови из набухшей вены, – мобильный телефон.
За окном, маслянисто отражавшим хаос на неубранном столе, волнами проходила тьма; иногда выскакивали, по одному, по два, или по многу штук кряду, моросящие, как душ, слепые фонари. Поезд был тюрьмой. Но впереди у Крашенинникова была пустота, позади – тоже пустота: ни работы, ни целей – все в одночасье рухнуло. Казалось, только пока продолжается это тюремное движение в никуда из ниоткуда – продолжается псевдожизнь. Неужели Лора, подобно своей матери, все-таки сделала это? Страшная неопределенность простиралась вокруг; сердце Крашенинникова было налито бегущей ночной темнотой до самой аорты, и темноты еще оставалось столько, что не вместить и не вздохнуть.