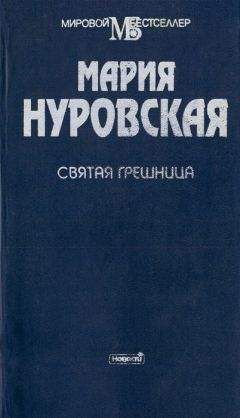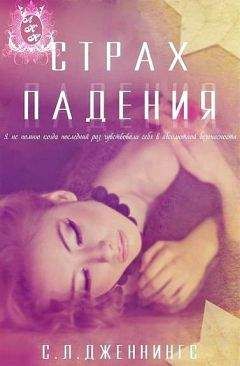— Помогу пани омыть бедняжку, одеть…
Эхом отозвались во мне слова твоей матери, сказанные тогда над рекой: «И та бедняжка Марыся». Мне не хотелось, чтобы ее жалели. Марыся не была бедняжкой. Просто у нее трагически сложилась жизнь.
— Я все сделаю сама, — отказалась я.
Зазвонил телефон.
— Кристина, — услышала я твой голос. — Ты мне звонила?
Воцарилась тишина.
— Марыся умерла.
— Я приеду, найду только себе замену.
Мне не хотелось, чтобы ты сейчас был с нами.
— Увидишь ее утром… так будет лучше…
— Хорошо, — сразу согласился ты. — Справишься?
— Да, — ответила я коротко.
— Завтра я все оформлю.
— Хорошо.
— А что с Михалом? Он знает?
— Он в школе, не беспокойся о нем, я… — И неожиданно остановилась на полуслове.
Умерла мать ребенка, значит, сообщить ему об этом должен отец. Почему я стремилась все взять на себя, почему я была такая алчная? Может, этого не могла мне простить Марыся, выдернув свою ладонь? Кем я была в этом доме? Беглянкой из гетто. Вошла сюда, чтобы обокрасть ее, украсть все, что она любила. А теперь собиралась дирижировать уже не жизнью ее, а смертью. Я должна уйти отсюда и вернуться после похорон. Но это невозможно. Кто-то должен был заняться ее телом. Чужой? Она бы этого не вынесла, как не могла вынести жалостных взглядов и еле скрываемого испуга. Я всегда переживала, как только к Марысе приближались чужие: врачи, сестры. Даже твои взгляды заставляли меня переживать, потому что она переживала… Никто не имел права приблизиться к ней, пока мы не будем к этому готовы. Она и я. Часы показывали двенадцать. Михал вернется около трех, еще оставалось время.
Я принесла из ванной тазик с водой, потом сняла с нее рубашку, намылила губку и начала омывать тело Марыси. Выступающие ребра, впалый живот, острые кости бедер.
Неожиданно мысленно сравнила со снятием с креста. Была какая-то схожесть в положении тела, позиции головы… И на какой-то момент это показалось святотатством, в душе у меня другой Бог и другие святые… Слезы лились из глаз, перемешиваясь с водой и мылом. Можно сказать, что я омывала тело Марыси своими слезами.
Продолжая плакать, я достала из шкафа платье, которое когда-то дала мне твоя мама. Синее с белыми воротничком и манжетами. Я носила его вместо Марыси, а теперь вот одеваю в него Марысю.
— Уже никто не будет смотреть на тебя такую, — говорила я, как в лихорадке. — Уже никто тебя не обидит.
Михал хотел сразу отправиться в свою комнату, но я его задержала.
— Не ходи туда, — сказала я, непроизвольно понижая голос.
— Мама спит? — спросил он.
Я обняла его и посадила на топчан.
— Михал, — проговорила я, — твоя мама умерла.
Минуту мне казалось, что он ничего не понял, а потом у него задрожал подбородок, как в детстве, когда старался сдержать слезы. Мы сидели так, поддерживая друг друга…
Часы пробили два. Прошло два часа нового дня, который мы должны были прожить без нее.
Август 57 г.Итак, Анджей, мне тридцать два года. Мы с тобой еще вместе. Собираясь продолжить эти письма, я задумалась: что они для меня значат. Возвращаюсь к ним редко, однако они как бы вытекают одно из другого, составляя целое повествование нашей жизни. Я по порядку рассказываю, что мы вместе пережили, что пережила я. Думаю, письма для меня, как ширма, за который я могу раздеться донага. Дело не в том, что ты не знаешь каких-то фактов, просто о другом невозможно знать все, это было бы ужасно. Обычный обман — своего рода защитная оболочка, скрывающая живое мясо. Без нее жить невыносимо. Я не стремлюсь себя оправдать, знаю, что в нашем случае речь идет не о мелком обмане, а о большой лжи. Я ношу ее в себе, как острый, болезненный шип, с которым научилась жить.
В тот день после похорон Марыси мы вернулись домой. Михал довел себя плачем, ты даже сделал ему укол, после которого он заснул. Я сидела рядом, держа его за руку. Михал постоянно повторял, что не был достаточно добр к маме. Его мучили угрызения совести. Я позволила ему выговориться, пока он не уснул. Посидев еще немного для большей уверенности, отправилась к нам в комнату. Ты сидел за столом, глядя в одну точку. Я знала: ты чувствуешь то же самое, что и Михал. Молча достала бутылку водки и налила в рюмки. С утра мы ничего не ели, поэтому быстро захмелели. Заплетающимся языком ты рассказывал глупейшие анекдоты, а я буквально лопалась от смеха.
— Приходит баба к доктору и говорит: пан доктор…
— Дохтор, — поправила я.
Представляю, что могла подумать праведная семья портных, слыша сквозь тонкие стены наш смех. К тому времени только они жили в нашей квартире. Странная семья переехала, и пан Круп занял их комнату под мастерскую. Мы не возражали, ведь у него была большая семья, которая и составляла основную погребальную процессию, следовавшую за гробом Марыси. Из ее родственников приехала только та самая сестра из Кракова, муж остался с детьми, потому что старшая дочка болела ангиной. Из твоей больницы не было никого, но в газете «Жыче Варшавы» я прочитала:
«Доктору Анджею Кожецкому выражаем соболезнования в связи со смертью жены Марии.
Коллеги».
«Жены Марии», — повторила я, здесь имя обязательно. И еще были строчки:
«Доктору Анджею Кожецкому выражаю искреннее соболезнование в связи со смертью жены.
Ядвига Качаровская».
Интересно, не она ли тогда звонила? Если да, то «искренние соболезнования» были неуместны, а вот отсутствие имени жены — наоборот.
Итак, мы напились. Начали бегать по комнате, я у тебя что-то спрятала, ты хотел отобрать. Неожиданно у меня подкосились ноги, и я рухнула. Ты оказался рядом со мной на полу. Я видела твое лицо, но оно немного расплывалось. Все вокруг было не четким. Я почувствовала твои руки у себя на бедрах, ты поднял мне юбку и, прижимаясь щекой к моему животу, зарыдал. Я понимала, что ты выплакиваешь свою боль там, где всегда искал убежища. Но с этой минуты началось наше возвращение друг к другу. Вернулись наши ночи лихорадочной, ненасытной любви, как будто мы старались наверстать пропавшее время. Смерть Марыси всех нас сблизила. Изменился и Михал, ему необходимо было перед кем-то раскрыться. С волнением я выслушала его рассказ о первой несчастной любви к однокласснице. К сожалению, она была на два года старше и смотрела на него свысока. В свои четырнадцать лет Михал вытянулся и был одного со мной роста, но ужасно худой. От этого руки и ноги казались слишком длинными. Под носом у него появился пушок, голос ломался. Он безвозвратно расставался с детством, и это переполняло меня грустью. Я так его любила, когда он был ребенком…