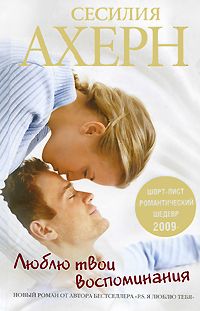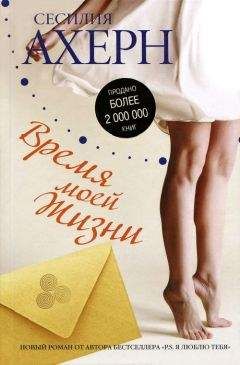– Женщина?
– Вот именно.
– Работающая в доставке?
– Нет, Джуди считает, что это не была официальная доставка, а Джуди в таких делах разбирается. Хотя с тех пор прошел год, она заметила все детали. Отличная память. Женщина приехала в обычном автомобиле, не в фургоне. О самой женщине она ничего сказать не может, та почти ничего не говорила. Джуди подумала, это соседка или коллега.
– И она привезла три коробки?
– Да, три.
То есть как раз эти коробки с марблс. Выходит, так? Я снова подумала о причинах, по которым мама предпочитала молчать, даже не хотела, чтобы я наткнулась на эти три коробки.
– Одна маленькая деталь, – поспешно добавил он. Эта маленькая деталь чем-то его смущала. – Джуди сказала, это была блондинка.
Моя мама отнюдь не блондинка. Я прикинула, как выглядят жены моих дядей, но тут же отказалась от этой попытки: я их сто лет не видела, у них теперь могут быть лиловые волосы или в прошлом году светлые, а сейчас вообще никаких. Я бы хотела многое уточнить у Микки, но у него иссякли ответы.
– Удачи, Сабрина, – сказал Микки. – Надеюсь, вы найдете шарики. В том числе и ради моего спокойствия.
Комми, простецкие, для небогатых мальчишек. Самый древний вид марблс – глиняные, неровные, неидеально круглые, зато дешевые, их полным-полно, в Первую мировую ребята на улицах только их и катали. Потом появились эгги, а еще фарфоровые и стеклянные, самые красивые, среди них не бывает двух одинаковых. Больше всего я люблю стеклянные. Но еще есть металлические, их я тоже собрал несколько штук. Они сделаны из цельного металла, покрытого хромом, словно рыцари в доспехах, лучшие битки, какие только могут быть. Тяжелые, стремительные, мгновенно вышибают все шарики противников из круга. Сегодня и я сам такой биток. Вокруг меня стекло, фарфор и даже глина, а я – сталь. Мне двадцать четыре года, сегодня моя свадьба, я вышиб всех прочих парней из круга Джины.
Торжество происходит в приходской церкви Айоны. В этой местной церкви Джина была крещена, впервые исповедалась и причастилась, маленькая невеста в белом платьице, прошла конфирмацию и теперь выходит замуж. Тот же священник, который совершал все первые торжественные обряды, теперь нас венчает и поглядывает на меня все так же, как и при первой нашей с ним встрече.
Он ненавидит меня.
Что за семья выберет себе в ближайшие друзья священника? Вот такая семья у Джины. Он хоронил ее отца, утешал ее мать долгими вечерами, бесплатно попивая ее виски и бесплатно давая ей советы, а теперь смотрит на меня как на ублюдка, что будет до утра трахать его девочку. Еще бы, непременно буду. Он смотрит на меня так, словно я отбираю у него законное место в семье. Я сказал об этом Джине. Сказал, что священник странно поглядывает на меня. Она ответила, это потому, что он знает ее с самого рождения, он заботится о ней, он ей как отец. Я спорить не стал, но, по мне, папашу с таким взглядом следует запереть и вздуть хорошенько.
Джина говорит, у меня паранойя, мне все кажется, будто я не полюбился ее друзьям. Может, и паранойя, но мне кажется, они тоже странно поглядывают на меня. Или это потому, что они такие вежливые, и я не могу вычислить, что у каждого на уме. Они не орут на меня за столом, не прижимают к стене, чтобы высказать свое мнение в лицо, а для меня это странно и подозрительно. В моей семье вежливость не в чести, обходимся без прикрас. Что дома, что в школе, что на улице. Я всегда знаю, что промеж нас происходит. Вот священник ненавидит меня, и я это знаю – по тому, как он на меня смотрит, когда Джина отвернется. Два мужика, два оленя в гоне, в любой момент готовы сплестись рогами, оторвать сопернику на хрен башку. Я-то радовался, что Джина наполовину сирота, думал, не придется иметь дело с этим тупым дерьмом, мужским собственничеством, нелюбовью к тому, кто дочку «украл», так на тебе, в этой роли у них священник.
А еще семейный врач.
Господи, и он тоже.
Много вы знаете семей со «своим доктором»? Вот такая у Джины семья.
У моей мамы имелись свои средства, чтобы поставить нас на ноги. Обгорели – сода с водой, от кашля помогало масло с сахаром, от запора – кипяток с коричневым сахаром. Помню, как-то у меня появилась шишка на колене, и Мэтти спрыснул ее кипятком и стукнул книгой – раз, и нет шишки. Волдырь у Хэмиша на носу вскрыли ножницами и прижгли жидкостью для бриться. Порезы смазывали йодом. Больное горло полоскали соленой водой. Антибиотики шли в ход очень редко. С врачом мы общались слишком редко, чтобы подружиться, как Джина и ее мать подружились со своим терапевтом. У меня не было семейного врача, тем более такого, который стал бы переживать, на ком я женюсь. Но у Джины семья такая. И что еще хуже – или лучше, не пойму, – я теперь часть этой семьи. Прямо-таки слышу смех Хэмиша. Слышу его, повязывая в туалете галстук и готовясь к приему, который оплачивает дед Джины.
– Лучший день жизни? – насмешливо замечает Энгюс и пристраивается рядом пописать. Сбил меня с мысли.
– Ага.
Я попросил его быть моим шафером. Жаль, что Хэмиша нет, хотя с ним, конечно, было бы в тысячу раз рискованнее, и все эти семейные доктора и попы бегом бы бежали с приема от его дерзких речей. Хотя нет, Хэмиш был человек умный. Он не как все прочие, он умел наблюдать, знал, где стоит надавить, оценивал ситуацию и только потом действовал. Это не значит, что он бы не допустил промаха, но по крайней мере он сперва думал, а не выпаливал первое, что в голову придет, как все прочие. Пять лет прошло, а для меня он все еще жив. Но Энгюс ближе всего после Хэмиша, а если я вообще не приглашу родичей участвовать в свадьбе, они меня убьют, на фиг. Будь у меня возможность выбирать, я бы позвал в шаферы своего дружка Джимми, но тут все сложно. Жаль, правда, потому что с ним мне приятнее всего поболтать.
Я с ним разговариваю чаще, чем с кем-либо другим. Мы все время что-нибудь обсуждаем, хотя по сути и ничего особенного. Я могу с ним день напролет так болтать. Мы одногодки, и он тоже без ума от шариков, на этом мы и свели знакомство и теперь играем несколько раз в неделю. Единственный взрослый человек, кого я знаю, чтобы играл в шарики, но он говорит, что знает еще нескольких, и мы шутим: соберем команду, сыграем в международном турнире. Ну, не знаю. Может быть, и правда когда-нибудь.
Странно было не сказать Джимми про сегодняшние планы. Ведь для того и друзья вроде бы. Но у нас с ним по-другому. Он тоже не слишком-то откровенничает про свои дела, кое-что я порой вычисляю, но кое в чем он до жути скрытный. Меня это вполне устраивает. Почему? Этот вопрос я многократно себе задавал. Мне нравится держать свое при себе. Контролировать, кто что про меня будет знать. Сначала мы большой оравой прибыли в Ирландию из Шотландии, предмет для всеобщих разговоров, и целый год спали вповалку на полу, и опять разговоры, переехали к Мэтти после скоропалительной свадьбы, и об этом опять-таки все судачили с полным на то основанием, ведь Томми у мамы родился «рано», а потом мы подросли, дикая банда, а еще позже, когда Хэмиш умер, все принялись обсуждать, чего он натворил и чего не делал. Каждый пытался одной фразой вынести ему приговор или даже одним словом, одним взглядом, как будто кто-нибудь его знал – но никто не знал и знать не мог. Не знали его так, как я. Думаю, даже остальные братья не знали его, как я. И я хотел уйти от всего этого. От слухов и пересудов. Я хотел быть тем, кем захочу, потому что захочу. Без объяснений, без болтовни. Хэмишу это удалось, но он уехал из страны, а я не уверен, что готов на это.