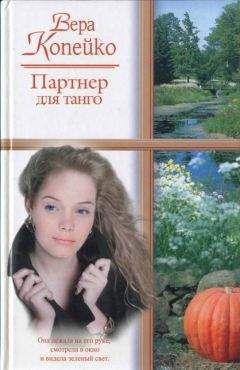Кольцо ему понравилось. Даже чай показался слаще, когда стало ясно, что оно не обручальное.
Антон долго пил чай, словно опасался, что кисло-сладкая тревожащая волна схлынет, как только он отставит стакан. Но, уговаривал он себя, если допьет, то сразу пойдет и закажет ей чай и себе тоже. Они будут долго-долго пить чай, пока не выпьют весь титан, который вскипятила проводница. Всю ночь.
«А может, ты хочешь пить чай с ней всю жизнь?» — спросил он себя.
Ну уж, прямо вот, уж слишком…
— Итак, я готова. Где мой чай?
Попутчица вошла в купе. Лицо ее было свежим, умытым, глаза блестели. Она внесла с собой аромат… аромат чего? Ему показалось, это был аромат папоротника. Самого древнего растения, которое сохранилось до сих пор.
Он быстро встал и вышел из купе.
Почему он решил, будто это папоротник? Не потому ли, что этот запах возбудил в нем такое древнее чувство… Ему захотелось… ах, да что говорить! Ясно, чего ему захотелось.
Но он принесет ей стакан чая. И больше ни-че-го.
Продолжая исследовать прошлое, Зоя Павловна заставила себя вспомнить то, без чего не объяснить, почему ее жизнь сложилась так, а не иначе.
Она села на диван, обитый свежим гобеленом, стиснула руки и положила их на колени. За окном щебетали скворцы, они собирались на вечерний ужин, где-то мяукали кошки, которых здесь великое множество. Один черный кот вчера позволил себе неслыханную дерзость — через балконную дверь прошел к ней в номер и, замерев перед дверью, истошно заорал. Лентяю не хотелось обходить по двору, он требовал выпустить его через отель.
Не отвлекайся, приказала себе Зоя Павловна. Ты все равно не обойдешь главное, изменившее все…
Итак — она стиснула руки, — когда они танцевали с Глебом, все замирали. Не потому, что видели нечто, никогда не виденное, по другой причине. Люди пытались понять свои собственные чувства, когда смотрели на юную пару. Что это с сердцем? Оно бьется и замирает как никогда. Или — как давно, очень давно билось… Зависит от сердца каждого, кто смотрит на танцоров.
Но если заключить в единую формулу высказанное и не высказанное — зрителями, судьями, произнести это вслух, то все было, и просто: в танце Зои и Глеба столько страсти, сколько у любящей пары в постели.
А разве не потому латиноамериканские танцы так притягательны? Разве не чувственностью, распаляющей воображение? Как всякая недосказанность, эротика в танце распаляет сильнее любого откровенного зрелища.
Обо всем этом Зоя Павловна догадалась гораздо позже. Тогда же поняла, чего опасалась мать…
Ей показалось, от балкона потянуло холодом. Она поежилась. Но быстро одернула себя: нет, холодом веет из давнего прошлого…
— Открой, открой немедленно! — кричала мать и стучала в дверь. — Открой же! Ты сама не знаешь, что делаешь! Он твой брат! Открой! Он твой брат, ты это понимаешь?
Зоя открыла дверь. Мать не смотрела на дочь, ее взгляд устремился в глубь комнаты. Она хотела увидеть его. Того, от которого берегла дочь.
Зоя смотрела на нее молча, на лице застыло ожидание:
— Кто, мама? Кто мой брат?..
— Он, — сказала мать. — Слава Богу, его здесь нет…
— Ты думала… — в глазах Зои отразился страх, — что мы…
— Думала. Но ведь ничего никогда не случалось, да? — спросила мать. — Ты… прежняя? Ты невинная, моя дочь?
Зоя покраснела.
— Мама. Ты что… Но… почему он мой брат?
— Потому что… так вышло, — торопливо бормотала мать. — Не твое дело…
— Ты никогда не говорила…
— Зачем? Танцы — не причина для беспокойства…
— Значит… поэтому его мать взяла с нас слово…
— Слово? Что за слово? — Маргарита Федоровна вздернула подбородок.
— Она заставила нас с Глебом пообещать, что мы… что между нами ничего… не будет. Такого…
Мать уставилась на дочь.
— Да как она могла! — возмутилась Маргарита Федоровна.
— Я думала, это потому, что я ей не нравлюсь, — призналась Зоя.
— Ты? Ты можешь кому-то не нравиться? Какая дрянь!
— Кто — дрянь?
— Его мать.
— Ты не любишь ее так сильно, потому что… у вас был один мужчина? Если Глеб мой брат…
— Не в том дело. Я вообще не люблю ее.
— Но мне она нравится…
Мать опустилась на диван.
— Только прошу тебя, не говори ей, что ты знаешь. Не говори то, что я тебе сказала. Глебу тоже. Обещаешь?
— Почему? — тихо спросила Зоя. — Я рада, у меня есть брат… Он…
— Нет! Нет у тебя брата! — закричала мать. — Забудь! — Ее лоб побагровел. — Прошлого нет. Есть только сегодня. Ты уедешь в Москву, для тебя нет вот этого города. У тебя будет другая жизнь. Не серая, как здесь. Ты будешь жить в Москве. Понимаешь? Или я сама прожила напрасно свою жизнь. Ты ведь не хочешь, да, чтобы я жила зря? Не хочешь?
Ее голос перешел на визг, дочь попятилась. Мать редко позволяла себе истерику.
— Мама, мамочка, я сделаю все, как ты скажешь!
— И скажу! Ты никогда не будешь спать с Глебом! Ты никогда не будешь жить здесь! У тебя будет настоящий муж. Я об этом позабочусь.
Дочь кивала, как кукла с неполным приводом — так Глеб называл ее любимую куклу Маруську — давно, в детстве. Она могла только двигать шеей, больше ничем.
— Собирай вещи, — внезапно приказала мать.
— Как! Но мы с Глебом должны выступать в финале…
— Финал сейчас. — Маргарита Федоровна встала с дивана. — Победа за нами. — Она усмехнулась. — Теперь мы танцуем с тобой. — Она трижды хлопнула в ладоши. — Слышишь аплодисменты?
Зоя Павловна, рассматривая свое прошлое с берега африканского континента, поморщилась. Надо же, она не успела спросить мать, правда ли то, что та тогда сказала? Или это был единственный надежный способ оторвать ее от Глеба навсегда?
Но прежде, возвращаясь к той сцене, Зоя Павловна всякий раз приходила к одному и тому же выводу: она должна быть благодарна матери. Если бы она вышла замуж за Глеба, ничего хорошего не получилось бы. На самом деле, кто они были? Мальчик и девочка, у которых страстно кипела кровь, разожженная танцем.
Мать была уверена, а потом убедила ее, что страсть — лишь приправа к основному блюду. А оно, это блюдо, состоит из семьи, построенной на разумной спокойной основе.
— Страсть, да? — Она приводила любимый довод: — Почитай русских классиков. Ты увидишь, страсть никому не принесла счастья. Тургенева возьми, почитай. Как страсть, так смерть. Всегда рядом.
Зоя Павловна закрыла глаза. Она увидела свой город. Он не показался ей серым, он вспыхнул красками костюмов, в которых она танцевала. На самом деле город никогда не давил ее, не стеснял, как и невесомый танцевальный костюм. Для нее он был жарким, как объятия Глеба в аргентинском танго. Пять раскаленных угольков на спине… Его пальцы. Этот город давил и стеснял мать.